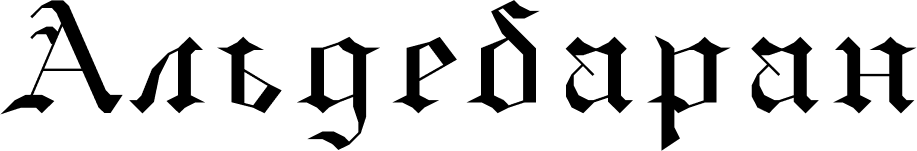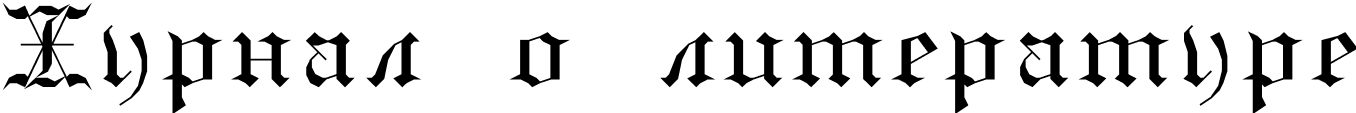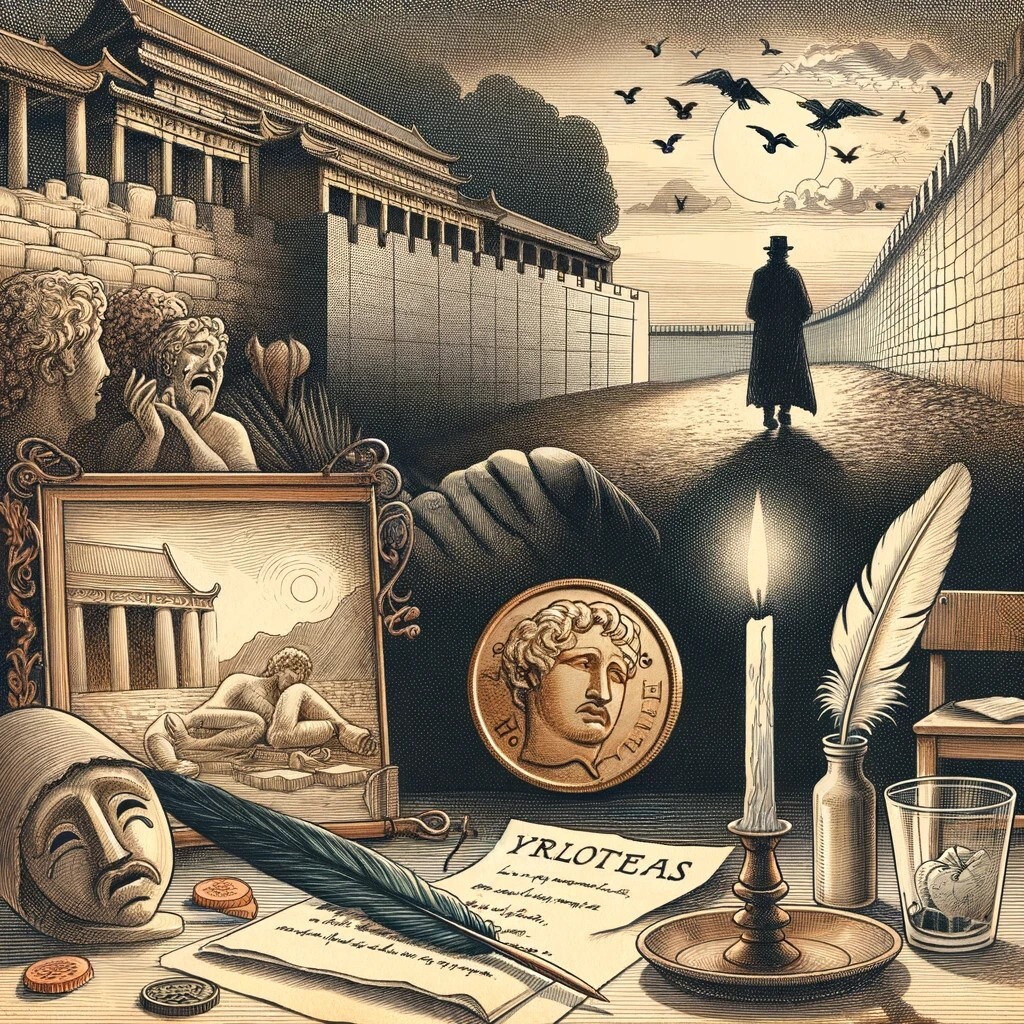Из жизни комнатных растений
Артур Новиков
Поэма
Глава 2. Нора. Вечером
Глава 2. Нора. Вечером
Готова была выцарапать с мясом из любого худосраного календаря – настолько ненавидела ноябри, равно как и собственное имя, Ноябрина. Без компромиссов. Без сожалений. Люто.
А всё потому, что уже самые ранние её воспоминания неизменно вызывали к жизни и разворачивали перед внутренним взором видения, которые, хоть и покрылись пылью с годами, так и не утратили тяжёлой эмоциональной интенсивности.
Вот крохотные ручонки сжимают букет гладиолусов. Вот высокая молодая учительница в белой сорочке отсвечивает на фоне коричневой классной доски. Вот «Третье сентября» и «Классная работа». А вот конфеты, которые маленькие ладошки вытаскивают из ранца, чтобы раздать одноклассникам.
Вот совсем ещё беззащитную девочку в белом передничке и коричневом форменном платьице мальчишки из первого «ЖЭ» класса вместо «Ноябрина» впервые назвали «Ноем». А потом – «Ноябрюшком». А затем – «Ноябрылом». А следом – «Ноябертой».
А также – белорусским «Лістападам», «Барани́ной», «Брюшком-Ноя», «Наюлилой», «Не рабыней», «Наебиной», «Не ряби, на!»-ой…
Так, со школьной скамьи Ноябрина возненавидела осень вообще, школу как таковую, противоположный пол как тупиковую ветвь эволюции, а заодно классную доску и нелепое правило писать число и месяц над заголовком «Классная работа» прописными буквами. Ибо знала, что каждый раз, когда её рука выводит в тетради «…надцатое ноября», на другом конце класса кто-то уже давится – никак не задавится – смехом.
– Эй, – «шутил» в сто тридцать пять тысяч семьсот сорок второй раз Гена Самолётов, – третья Ноябрина, классная работа! Ах-ха-ха!
– Вымри, велоцираптор монгольский, – не выдержав очередного приступа остроумия Геннадия с последней парты среднего ряда, подала голос со второй парты ряда у окна Ноябрина. И тут же устыдилась, и едва не заплакала, и сделала помарку, из-за которой в конце урока получила «хорошо» вместо «отлично». И проплакала всю перемену…
Геннадий Самолётов, конечно же, получил «отлично». Как он умудрился, думала Ноябрина, он же идиот!
В такие минуты она хотела, чтобы её звали как угодно: Тамара, Анжела, Ванесса… Блин, да хоть Тракторина – только не Нояб...
С другой стороны, это было так давно, что Нора – как она теперь всегда и всем представлялась – практически не вспоминала школьных обид и осенних обострений «юмора» её недоразвитых одноклассников.
Однако горькая – или, может быть, единственная – правда заключалась в том, что Гена Самолётов влюбился в Нору с первого взгляда, сразу же, как только увидел её на линейке. Два огромных белоснежных банта, вплетённые в совершенные русые косы, солнечный свет, падающий под углом – точно специально, прямо на неё – в прохладном сентябрьском воздухе, – всё в этой картине взывало к сердцу смотрящего, требуя незамедлительного отклика.
И Гена – поплыл. Он был очарован и смущен, обескуражен и встревожен, вдохновлён, окрылён и опьянён, ошеломлён, потрясён и ошарашен, зачарован, околдован, одурманен и загипнотизирован, хотя, разумеется, понятия не имел, кто такая эта самая «очарован». Но всё-таки почувствовал – аж пробрало пацана! – что одного только взгляда на эту девочку ему хватило, чтобы навсегда стать взрослым и постичь «настоящее чувство».
А тем временем девочка с белыми бантами и букетом белых гладиолусов буквально светилась. Невесомые фотоны света, для которых она – сама того не зная – стала центром масс, отрывались от гладиолусов с гофрированными цветками, от пышных бантов, от волос и передника и, уплотняясь в пространстве вокруг Норы, образовывали бесплотную сферу. Тёплую и мягкую, как само солнце.
А зелёные стебли букета, уходящие вниз по косой, длиной в половину роста девочки, как бы намекнули Гене: это сама природа, в своей чистоте и невинности, воплотилась здесь, у средней школы № 196 г. Минска, первого сентября 1996 года в 11:00.
Как мог он устоять? Геннадий Самолётов, что называется, втрескался.
Однако за все одиннадцать лет, которые Гена и Нора проучились вместе, чересчур скромный и застенчивый – и мало ли какой ещё – Геннадий Самолётов так и не набрался храбрости признаться ей в своей преступной страсти. Он только глазел и глазел год за годом с задней парты на стройную, русую, ухоженную и опрятную Нору. И год за годом ждал и ждал ноября – повода, пусть и не самого лучшего, но всё же повода «поговорить» с любовью всей своей жизни. По этой причине Гена отчаянно призывал осень и все одиннадцать лет провёл в ожидании ноябрей.
– Эй, – горлопанил он с задней парты, дрожа всеми фибрами от ледяного трепета, как от холодного унитаза в зимнюю ночь, когда, наконец, наступал долгожданный миг. – Ноябрина, у тебя день рождения в ноябре? Родители, поди, долго думали над именем?! Ах-ха-ха!
– Недоразвитый! – фыркала Нора, едва сдерживая слёзы обиды и непонимания.
И хотя родилась Нора на самом деле третьего сентября – что, кстати, тоже постепенно стало предметом однодневных шуток, поскольку Нора всегда приносила конфеты на свой день рождения и раздавала их всему классу, напоминая тем самым о себе и своём третьесентябрьском «происхождении», – а по классу тут же катилось классическое «Я календарь переверну...», – и хотя родилась Нора третьего сентября, Гена Недоразвитый продолжал жарить шутки про её день рождения в ноябре.
Но были и другие «остроты», которые изобретательный Гена использовал как инструмент для вступления в «диалог» с Норой.
– Эй, Ноябрина! – бледнея и покрываясь инеем, восклицал Гена. – Если пойдёшь замуж за Октября, то сына вашего будут звать Полумесяц, а внуков – Декабристы. Ах-ха-ха!
– Дурак глупый! – огрызалась Нора и краснела до кончиков ушей, то ли от обиды, то ли от стыда, то ли от простуды, то ли от всего сразу.
– Эй, осенняя прохлада, – начитавшись летом после девятого класса Есенина и переделав строчку поэта про «августовскую прохладу», выступал с подмостков задней парты Геннадий, – знаешь, почему тебя никогда не зовут на флеты? Потому что тогда всем придётся тусить в кожухах и шубах! Ах-ха-ха!
– Олух, – коротко, не глядя на него, ответила Нора, которая к тому времени уже стала весьма популярной девчонкой не только в классе, но и во всей школе. И Геннадий, не без горечи в сердце, почувствовал, что их многолетний «диалог» неумолимо приближается к логическому завершению.
На выпускном, затихарясь на лестничной площадке, ведущей на крышу школы, Гена Самолётов для храбрости раскатил с товарищами «фаустпатрон» портвейна «Три топора». Затем спустился в актовый зал, где гремела музыка и были танцы, отыскал глазами любовь всей своей жизни и, красный как бурак, заикаясь, пригласил Нору на танец.
– Может быть, в ноябре, – отрезала Нора и отошла от и без того Недоразвитого Геннадия, который теперь ещё и дара речи лишился, – в сторону, где её тут же окружили подружки, два-три кавалера и какой-то непонятный мужик в очках и с фотоаппаратом.
Геннадий Самолётов был ранен, подбит – да что уж там, уничтожен. Одиннадцать лет ему потребовалось, чтобы решиться сделать шаг. Одиннадцать лет трусости, неопределённости и ожидания. Зачем он ночи напролёт оттачивал свои глупые шутки, чтобы случайно не переборщить с глупостью и не довести её до слёз? Одиннадцать грёбаных лет он боролся сам с собой, чтобы в нужную минуту смочь, не сдрейфить. И ради чего? Да какого лешего?! Одиннадцать лет – едри ж твою в бабушку плюнуть! Одиннадцать лет он только о ней и думал! Вот что! Только о ней! Вот как! Понимаешь ли ты?! Одиннадцать лет!
Паршивые гладиолусы и белые банты! Пропади оно всё пропадом! Ни дна ему, ни покрышки! К ебеням всё провались! Гори оно синим пламенем!
«Гори Коринф, Москва и Прага!
Гори проклятая бумага!
Гори вся жизнь пустым огнём,
вчерашним утром, этим днём,
гори всё, что необходимо…»[1]
Он ещё раз посмотрел в разрезаемый светомузыкой сумрак, где, расплываясь, маячил профиль Норы. Там уже образовалась компания. Гена краем глаза отметил золотой блеск цепочки, тонкой, как нить, вокруг хрупкой шеи Норы – и вышел вон.
Никогда больше никого из одноклассников и одноклассниц он не видел, на встречи выпускников не ходил и вычеркнул все школьные воспоминания из памяти. Странно, но для этого ему понадобилось лишь одно – приказать себе: забудь! И память очистилась. Так, по крайней мере, ему тогда показалось.
И вот, в последних числах очередного октября, Нора вдруг ни с того ни с сего вспомнила Гену Самолётова. То есть как вспомнила – он ей приснился, чему Нора немало удивилась.
Во сне Нора рыбачила. Она сидела на берегу огромного бассейна – в несколько километров – с короткой удочкой и толстой леской. А в воде маячил красный, неестественно широкий и массивный поплавок, больше походивший на юлу. Он – поплавок – то и дело уходил под воду, хотя Нора сквозь прозрачную голубую толщу видела, что на крючке ничего нет.
И так ей это надоело – надоело, что на крючке пусто, а поплавок то и дело тонет. И когда в следующий раз красная «юла» ушла под воду, Нора подсекла – дернула удочку так, что та изогнулась дугой, леска запищала от напряжения, и из воды, следом за «юлой», начало подниматься лицо. До безобразия знакомое.
Нора тащила – лицо надвигалось. Всё ближе, всё больше, почти вплотную. Стало страшно, но почему-то она не могла заставить себя остановиться, словно кто-то давил ей на грудь, толкал в плечи, влёк назад, сжимал её хрупкие пальцы поверх изогнутой удочки. Короче говоря, собственная воля изменила Норе. И она тащила ещё сильнее.
И вдруг лицо заговорило мужским голосом:
– Привет, ноябрьская революция! Потанцуем?
– Гена… – попыталась было произнести Нора, но голос её ослушался.
А лицо Гены Самолётова тем временем уже «наезжало» на её собственное, обволакивая и поглощая, продавливая её лицо собой. Нора пыталась пятиться, но тело не слушалось.
В ужасе она проснулась, слегка пискнув в тот самый миг, когда вскочила и открыла глаза – одновременно обретя утраченный во сне контроль над волей, телом и голосовыми связками.
Пару мгновений Нора сидела, опустив голову на грудь и отходя от шока. А когда, наконец, пришла в норму, заметила, что мысли о Гене Самолётове больше не поднимают в ней бурю прежнего гнева и раздражения. Напротив – теперь она чувствует, что этот «недоразвитый» – что-то как будто близкое. Может быть, даже – какой ужас – немного родное.
К своим тридцати «плюс» Нора уже успела дважды развестись. Детей у неё не было, любовника – тоже. И вообще, последние год-полтора она пребывала в апатии. Количество разочарований в какой-то момент превысило критическую массу – и мир потускнел. Померкло будущее, поубавился энтузиазм, а общей энергии едва хватало до трёх часов дня.
Справедливости ради следует сказать, что судьба с Норы спрашивала достаточно серьёзно. К двадцати двум она уже получила «вышку» по юриспруденции, к двадцати четырем пожила и поработала – точнее, «попахала» – в США. К двадцати шести – в Норвегии, откуда, собственно, и вернулась в «родны край» с мужем-поляком.
Впрочем, когда Веслав понял, что, курва, в Польшу она к нему не собирается, а всё больше посматривает в сторону Москвы, лях, недолго думая, растворился в последних лучах осеннего западного солнца.
Нора не особо расстроилась, подала на развод, попутно подала документы в несколько аспирантур по всей России и, к своему удивлению, прошла по квоте в РГГУ. В конце следующего лета собрала манатки, обняла перед выходом из дома мать и отца, сделала ручкой ляху – и была такова.
Но это было тогда. А теперь… Теперь она понятия не имела, на каком этапе собственной жизни находится и куда двигаться дальше.
«Крайний» муж её был москвич – молодой, красивый, обеспеченный, умный. И, что важно, неженатый. Но, как выяснилось в процессе, маниакально ревнивый.
Последней каплей для Норы стал банальный поход в магазин.
Жили они тогда в его квартире на «Кутузе». Был выходной. Нора по привычке проснулась около шести утра, умылась, привела себя – плюс-минус – в порядок и пошла делать кофе. Но обнаружила, что он закончился. Недолго думая и без задней мысли, она начала собираться в «ночник», что находился в первом этаже их сталинки.
Когда Нора, стоя в прихожей, уже забиралась в пальто, из спальни вышел одетый Санька.
– Привет, – сказала Нора, предчувствуя, как к горлу подкатывает ярость. – А ты куда?
– Привет. Я с тобой, – угрюмо пробурчал Санька, глядя из-под лба.
– Куда со мной?
– А куда ты идёшь?
– Я... – и тут Нора потеряла контроль. Как же ей это осточертело! Какого хрена?! Я что, шлюха, по-твоему? В шесть утра убегаю втихаря из дома, чтобы что? Чтобы...
– Трахаться! – выпалила злобно Нора, вложив всё, что накипело в это единственное слово.
С тех пор как они поженились, Санька наложил на Нору систему правил и ограничений, которые, по сути, запрещали ей вообще всё, где физически не присутствовал он сам. Разумеется, это означало отказ от подруг и уж тем более от друзей.
Что, в целом, поначалу казалось ей переносимым. Даже, возможно, отчасти правильным – ведь семейная жизнь всё-таки. Теперь он мой единственный друг. Пусть так.
Но со временем Санькина паранойя набрала обороты. И дошло до того, что Норе вообще возбранялось выходить из дома без его сопровождения. А семейная жизнь тем временем никуда не двигалась: уже больше трёх лет Нора носила кольцо и очень хотела детей. Но дальше разговоров дело не шло. Лишь система ограничений становилась всё более изощрённой.
«Траха... – что? Что она сейчас сказала? Она что?!», – Санька замер, потеряв дар речи. Время шло, а он всё никак не мог сообразить, что это было. И тот момент, когда ещё можно было что-то ответить, чтобы хоть как-то разрулить ситуацию, остался далеко позади.
Видя его растерянность и очевидный испуг, Нора вскипела ещё сильнее.
– Если ты сейчас выйдешь со мной в эту дверь, – на одной ноте процедила она сквозь зубы, с металлическим звоном в голосе, – я подам на развод.
Но он вышел.
И вот уже полтора года, как Нора одна. После Саньки она окончательно разочаровалась в том, что люди называли «любовью», и просто переходила из одного дня в другой, как из одной пустой комнаты в другую – не надеясь обнаружить в следующей что-то или кого-то особенного: иной пейзаж, иные законы физики или новые константы мироздания.
В общем, грациозный стержень Норы надломился. И жизнь её постепенно перешла в состояние, если уж драматизировать до конца, близкое к вегетативному.
Сейчас около восьми вечера. Нора одна в своей наёмной хрущёвской клетке на «Севастопольской». Минут пятнадцать назад она вылезла из душа и теперь, одетая только в тонкую золотую цепочку на шее и другую – на лодыжке, лежит неподвижно на кровати, бессмысленно уставившись в потолок. Русые волосы, стриженные а-ля каре, обтекая, напитывают влагой подушку.
Какое ей до этого дело?
Завтра начнётся очередной ноябрь. Завтра начнётся очередной рабочий день. Завтра она проведёт очередные два с половиной – три часа своей жизни под землёй, в метро.
Завтра в очередной раз её начальница Женя будет разевать на неё свой лошадиный рот – по поводу и без. Завтра будут бесконечные звонки клиентов «в рамках “бесплатной городской консультации населения”». Завтра она снова не успеет пообедать, потому что Женя «попросит» – срочно! Завтра мать в десятый раз напомнит, что ей уже за тридцать, а «часики-то тикают».
Завтра по дороге домой какой-нибудь упоротый таджик или узбек будет пялиться на неё – из-за её золотых волос (со страха она их и подстригла под каре, чтобы меньше пялились), – будет пялиться, что есть мочи, думая, что таким образом он её… что? Загипнотизирует, что ли? И она сама прыгнет к нему в койку? Птьфу, мерзость! Хоть на такси езди. Хотя и в такси они… Ну, не все «гости» плохие, конечно. Но сколько новостей было, что домогались пассажирок? Ведь это уже перебор – банально страшно по городу передвигаться. Сесть в метро – не сядешь, одни «ценные иностранные специалисты» сидят, русского человека не увидишь. А увидишь – так радуешься, как встрече дорогого друга.
И это в Москве-то! Наполеону Москву не дали – сожгли. От немцев защищали и армией, и женщинами, и детьми. А этим – без боя сдали. Только и новостей о них, что с кого-то скальп сняли, кого-то на Китай-городе – в самом центре – зарезали ударом ножа в сердце; то женщину изнасиловали, то несовершеннолетнюю; то в метро домогаются, а потом избивают на камеру тех, кто заступился; то прямо на беговой дорожке девушку избили; то на дороге разборки устроили, то в парке барана режут, то на камеру на рельсы мочатся, то стреляют за то, что плечом толкнули; то целые банды сколачивают, чтобы «русню» для тик-тока избивать; то пьют, то дерутся, то буянят, то теракт, то СВО-шников убивают и выходят чистыми из воды; то в школах детей избивают, то запугивают, то унижают, то учителям угрожают, то в университетах шествия устраивают с призывами «русню рэзать», какие-то диаспоры по всей стране, за многожёнство борются, за никабы…
У всех всё нормально? Ничего не смущает? Два плюс два – сколько будет?
Жить – страшно. Это всё уже похоже на какую-то бойню, на выдавливание коренного населения, на оккупацию. Вялотекущую, растянутую на десятилетия, чтобы наивные не догадались раньше времени. А когда догадаются – чтобы поздно было. В каждом подъезде, в каждом доме, в каждом такси, в каждом автобусе, трамвае, вагоне метро… И у всех по диаспоре, по «учению», по «бойцовской философии». Живёшь и думаешь, что надо ехать куда-то отсюда, в другую страну, где безопаснее, где не так много «гостей». А если и много – то туда, где они живут по закону, а не по зову крови, бешенству гормонов и мифологии гор и аулов, с культурным уровнем козы, IQ капусты, неудовлетворённым основным инстинктом и промытыми мозгами. Перекрестишься на церковь, так тут же найдется тот, кто взглядом косым тебя одарит или вслед промычит: «Э-э-э, ты-ы?! Сьлишишь?!» И это в России! В Москве!
Расисткой меня называют, ксенофобкой, мол, ненависть разжигаю. Так а как не разжигать-то, когда жить страшно! В своей-то стране, за которую миллионами жизней плачено, целые поколения за неё животами да горбами своими заплатили, а жить – из-за «гостей» – страшно! Ксенофобка! Пошли в жопу, недоразвитые лизоблюды, соросята, «всемдобра» – бобра тебе, @@@! предатели, перебежчики, шкуры продажные, трусы! Это по вашему заказу, поди, на Рублёвке площадки под ПВО строят, чтоб замки ваши – с Тимуром честно заработанные – защитить. Конечно, на рублёвке «Панцири» нужнее, чем под Горловкой и Белгородом. Как бы там ни было, «гостей» же никто не выгоняет просто так, не преследует «за цвет кожи». Живите! Законы соблюдайте, уважайте ближнего своего, только и всего.
А наши-то мужики что? Наши тоже хороши. Каждый второй с жиру бесится. Обленились, распухли, обабились. Слабые, больные, безвольные. Прически по полтора часа в «барбершопах» делают, да из-за седого волоска на яйцах панические атаки ловят. Квартиры сдают – от бабушек и дедушек полученные – да по домам сидят, на доставках добреют. «Ставки на спорт!» Микрозаймы. А виноват во всём президент.
Нет, ну не на зеркало же пенять!
Другие аниме месяцами зырят – в японцев мутируют. Или в «танки» задрачиваются, брюхи отращивают. Или по кабакам да по шлюхам... Или, как писал Есенин, «на Марксе жиреют, как янки».
Нормального холостого мужика – днём с огнём не сыскать. Или Отечество ушёл защищать, или женат. А если и найдёшь, так на него десять пар глаз уже положено. И даром, что женат.
А бабы? И бабы туда же. Не любят и не ценят, всё думают, что следующий уж точно принцем будет! Следующий! Понимаешь?! Следующий! «Погоди, мол, милый, завтра же тебе замену подыщу! Следующий – он же точно под меня специально заточен!» Не владычицы морской это дело – под мужика своего приспосабливаться, холить его и лелеять. Не для того я в этот мир пришла! Нынче взгляды прогрессивные, феминистические. Матриархат, курва пердалёна!
Одна подруга вообще «метод» изобрела – фильтрующий. Чтобы не ждать «красных карточек» во время знакомств, не терять попусту время и силы, а сразу отсеивать неудачников. «Какая у тебя машина?» – с ходу спрашивает. Говорит, метод очень успешный. Ни разу её не подвёл. А что мужа до сих пор не нашла – так это потому, что нищеброды они все. Да и сама она слишком сложная, как та деталь пазла, у которой замысловатая форма и множество соединительных элементов. Но своего она не упустит, потому что точно знает: вселенная припасла ей именно её молодого человека. Потому что любовью всё движется, понимаешь? А чтобы любовь не погибала, сначала надо себя полюбить, смекаешь? Ох, Нора… Жаль мне тебя. Когда ты уже повзрослеешь?
Господи, что же такое случилось, что с нами стало? Сплошная гордыня, стяжательство, глупость, пошлость и разврат. Червонцу всё кланяемся да лёгкой наживы ищем, как Горбачёв, чтобы «тусоваться красиво».
Сегодня звонил один такой – «деньги делают деньги» который, – перевёл мошенникам восемь миллионов рублей – они обещали ему поднять тридцать процентов профита на крипте за три месяца. И вот уже полгода он ждёт обещанный профит, а от них – ни слуху ни духу.
– Как вы думаете, – говорит, – может быть, они меня обманули?
– Если человек идиот, – растянулись губы Норы в тонкой улыбке, – то это надолго, – наслаждаясь злорадными звуками собственного голоса, медленно, смакуя каждый обертон, пролепетала она в тишине.
А всё потому, что уже самые ранние её воспоминания неизменно вызывали к жизни и разворачивали перед внутренним взором видения, которые, хоть и покрылись пылью с годами, так и не утратили тяжёлой эмоциональной интенсивности.
Вот крохотные ручонки сжимают букет гладиолусов. Вот высокая молодая учительница в белой сорочке отсвечивает на фоне коричневой классной доски. Вот «Третье сентября» и «Классная работа». А вот конфеты, которые маленькие ладошки вытаскивают из ранца, чтобы раздать одноклассникам.
Вот совсем ещё беззащитную девочку в белом передничке и коричневом форменном платьице мальчишки из первого «ЖЭ» класса вместо «Ноябрина» впервые назвали «Ноем». А потом – «Ноябрюшком». А затем – «Ноябрылом». А следом – «Ноябертой».
А также – белорусским «Лістападам», «Барани́ной», «Брюшком-Ноя», «Наюлилой», «Не рабыней», «Наебиной», «Не ряби, на!»-ой…
Так, со школьной скамьи Ноябрина возненавидела осень вообще, школу как таковую, противоположный пол как тупиковую ветвь эволюции, а заодно классную доску и нелепое правило писать число и месяц над заголовком «Классная работа» прописными буквами. Ибо знала, что каждый раз, когда её рука выводит в тетради «…надцатое ноября», на другом конце класса кто-то уже давится – никак не задавится – смехом.
– Эй, – «шутил» в сто тридцать пять тысяч семьсот сорок второй раз Гена Самолётов, – третья Ноябрина, классная работа! Ах-ха-ха!
– Вымри, велоцираптор монгольский, – не выдержав очередного приступа остроумия Геннадия с последней парты среднего ряда, подала голос со второй парты ряда у окна Ноябрина. И тут же устыдилась, и едва не заплакала, и сделала помарку, из-за которой в конце урока получила «хорошо» вместо «отлично». И проплакала всю перемену…
Геннадий Самолётов, конечно же, получил «отлично». Как он умудрился, думала Ноябрина, он же идиот!
В такие минуты она хотела, чтобы её звали как угодно: Тамара, Анжела, Ванесса… Блин, да хоть Тракторина – только не Нояб...
С другой стороны, это было так давно, что Нора – как она теперь всегда и всем представлялась – практически не вспоминала школьных обид и осенних обострений «юмора» её недоразвитых одноклассников.
Однако горькая – или, может быть, единственная – правда заключалась в том, что Гена Самолётов влюбился в Нору с первого взгляда, сразу же, как только увидел её на линейке. Два огромных белоснежных банта, вплетённые в совершенные русые косы, солнечный свет, падающий под углом – точно специально, прямо на неё – в прохладном сентябрьском воздухе, – всё в этой картине взывало к сердцу смотрящего, требуя незамедлительного отклика.
И Гена – поплыл. Он был очарован и смущен, обескуражен и встревожен, вдохновлён, окрылён и опьянён, ошеломлён, потрясён и ошарашен, зачарован, околдован, одурманен и загипнотизирован, хотя, разумеется, понятия не имел, кто такая эта самая «очарован». Но всё-таки почувствовал – аж пробрало пацана! – что одного только взгляда на эту девочку ему хватило, чтобы навсегда стать взрослым и постичь «настоящее чувство».
А тем временем девочка с белыми бантами и букетом белых гладиолусов буквально светилась. Невесомые фотоны света, для которых она – сама того не зная – стала центром масс, отрывались от гладиолусов с гофрированными цветками, от пышных бантов, от волос и передника и, уплотняясь в пространстве вокруг Норы, образовывали бесплотную сферу. Тёплую и мягкую, как само солнце.
А зелёные стебли букета, уходящие вниз по косой, длиной в половину роста девочки, как бы намекнули Гене: это сама природа, в своей чистоте и невинности, воплотилась здесь, у средней школы № 196 г. Минска, первого сентября 1996 года в 11:00.
Как мог он устоять? Геннадий Самолётов, что называется, втрескался.
Однако за все одиннадцать лет, которые Гена и Нора проучились вместе, чересчур скромный и застенчивый – и мало ли какой ещё – Геннадий Самолётов так и не набрался храбрости признаться ей в своей преступной страсти. Он только глазел и глазел год за годом с задней парты на стройную, русую, ухоженную и опрятную Нору. И год за годом ждал и ждал ноября – повода, пусть и не самого лучшего, но всё же повода «поговорить» с любовью всей своей жизни. По этой причине Гена отчаянно призывал осень и все одиннадцать лет провёл в ожидании ноябрей.
– Эй, – горлопанил он с задней парты, дрожа всеми фибрами от ледяного трепета, как от холодного унитаза в зимнюю ночь, когда, наконец, наступал долгожданный миг. – Ноябрина, у тебя день рождения в ноябре? Родители, поди, долго думали над именем?! Ах-ха-ха!
– Недоразвитый! – фыркала Нора, едва сдерживая слёзы обиды и непонимания.
И хотя родилась Нора на самом деле третьего сентября – что, кстати, тоже постепенно стало предметом однодневных шуток, поскольку Нора всегда приносила конфеты на свой день рождения и раздавала их всему классу, напоминая тем самым о себе и своём третьесентябрьском «происхождении», – а по классу тут же катилось классическое «Я календарь переверну...», – и хотя родилась Нора третьего сентября, Гена Недоразвитый продолжал жарить шутки про её день рождения в ноябре.
Но были и другие «остроты», которые изобретательный Гена использовал как инструмент для вступления в «диалог» с Норой.
– Эй, Ноябрина! – бледнея и покрываясь инеем, восклицал Гена. – Если пойдёшь замуж за Октября, то сына вашего будут звать Полумесяц, а внуков – Декабристы. Ах-ха-ха!
– Дурак глупый! – огрызалась Нора и краснела до кончиков ушей, то ли от обиды, то ли от стыда, то ли от простуды, то ли от всего сразу.
– Эй, осенняя прохлада, – начитавшись летом после девятого класса Есенина и переделав строчку поэта про «августовскую прохладу», выступал с подмостков задней парты Геннадий, – знаешь, почему тебя никогда не зовут на флеты? Потому что тогда всем придётся тусить в кожухах и шубах! Ах-ха-ха!
– Олух, – коротко, не глядя на него, ответила Нора, которая к тому времени уже стала весьма популярной девчонкой не только в классе, но и во всей школе. И Геннадий, не без горечи в сердце, почувствовал, что их многолетний «диалог» неумолимо приближается к логическому завершению.
На выпускном, затихарясь на лестничной площадке, ведущей на крышу школы, Гена Самолётов для храбрости раскатил с товарищами «фаустпатрон» портвейна «Три топора». Затем спустился в актовый зал, где гремела музыка и были танцы, отыскал глазами любовь всей своей жизни и, красный как бурак, заикаясь, пригласил Нору на танец.
– Может быть, в ноябре, – отрезала Нора и отошла от и без того Недоразвитого Геннадия, который теперь ещё и дара речи лишился, – в сторону, где её тут же окружили подружки, два-три кавалера и какой-то непонятный мужик в очках и с фотоаппаратом.
Геннадий Самолётов был ранен, подбит – да что уж там, уничтожен. Одиннадцать лет ему потребовалось, чтобы решиться сделать шаг. Одиннадцать лет трусости, неопределённости и ожидания. Зачем он ночи напролёт оттачивал свои глупые шутки, чтобы случайно не переборщить с глупостью и не довести её до слёз? Одиннадцать грёбаных лет он боролся сам с собой, чтобы в нужную минуту смочь, не сдрейфить. И ради чего? Да какого лешего?! Одиннадцать лет – едри ж твою в бабушку плюнуть! Одиннадцать лет он только о ней и думал! Вот что! Только о ней! Вот как! Понимаешь ли ты?! Одиннадцать лет!
Паршивые гладиолусы и белые банты! Пропади оно всё пропадом! Ни дна ему, ни покрышки! К ебеням всё провались! Гори оно синим пламенем!
«Гори Коринф, Москва и Прага!
Гори проклятая бумага!
Гори вся жизнь пустым огнём,
вчерашним утром, этим днём,
гори всё, что необходимо…»[1]
Он ещё раз посмотрел в разрезаемый светомузыкой сумрак, где, расплываясь, маячил профиль Норы. Там уже образовалась компания. Гена краем глаза отметил золотой блеск цепочки, тонкой, как нить, вокруг хрупкой шеи Норы – и вышел вон.
Никогда больше никого из одноклассников и одноклассниц он не видел, на встречи выпускников не ходил и вычеркнул все школьные воспоминания из памяти. Странно, но для этого ему понадобилось лишь одно – приказать себе: забудь! И память очистилась. Так, по крайней мере, ему тогда показалось.
И вот, в последних числах очередного октября, Нора вдруг ни с того ни с сего вспомнила Гену Самолётова. То есть как вспомнила – он ей приснился, чему Нора немало удивилась.
Во сне Нора рыбачила. Она сидела на берегу огромного бассейна – в несколько километров – с короткой удочкой и толстой леской. А в воде маячил красный, неестественно широкий и массивный поплавок, больше походивший на юлу. Он – поплавок – то и дело уходил под воду, хотя Нора сквозь прозрачную голубую толщу видела, что на крючке ничего нет.
И так ей это надоело – надоело, что на крючке пусто, а поплавок то и дело тонет. И когда в следующий раз красная «юла» ушла под воду, Нора подсекла – дернула удочку так, что та изогнулась дугой, леска запищала от напряжения, и из воды, следом за «юлой», начало подниматься лицо. До безобразия знакомое.
Нора тащила – лицо надвигалось. Всё ближе, всё больше, почти вплотную. Стало страшно, но почему-то она не могла заставить себя остановиться, словно кто-то давил ей на грудь, толкал в плечи, влёк назад, сжимал её хрупкие пальцы поверх изогнутой удочки. Короче говоря, собственная воля изменила Норе. И она тащила ещё сильнее.
И вдруг лицо заговорило мужским голосом:
– Привет, ноябрьская революция! Потанцуем?
– Гена… – попыталась было произнести Нора, но голос её ослушался.
А лицо Гены Самолётова тем временем уже «наезжало» на её собственное, обволакивая и поглощая, продавливая её лицо собой. Нора пыталась пятиться, но тело не слушалось.
В ужасе она проснулась, слегка пискнув в тот самый миг, когда вскочила и открыла глаза – одновременно обретя утраченный во сне контроль над волей, телом и голосовыми связками.
Пару мгновений Нора сидела, опустив голову на грудь и отходя от шока. А когда, наконец, пришла в норму, заметила, что мысли о Гене Самолётове больше не поднимают в ней бурю прежнего гнева и раздражения. Напротив – теперь она чувствует, что этот «недоразвитый» – что-то как будто близкое. Может быть, даже – какой ужас – немного родное.
К своим тридцати «плюс» Нора уже успела дважды развестись. Детей у неё не было, любовника – тоже. И вообще, последние год-полтора она пребывала в апатии. Количество разочарований в какой-то момент превысило критическую массу – и мир потускнел. Померкло будущее, поубавился энтузиазм, а общей энергии едва хватало до трёх часов дня.
Справедливости ради следует сказать, что судьба с Норы спрашивала достаточно серьёзно. К двадцати двум она уже получила «вышку» по юриспруденции, к двадцати четырем пожила и поработала – точнее, «попахала» – в США. К двадцати шести – в Норвегии, откуда, собственно, и вернулась в «родны край» с мужем-поляком.
Впрочем, когда Веслав понял, что, курва, в Польшу она к нему не собирается, а всё больше посматривает в сторону Москвы, лях, недолго думая, растворился в последних лучах осеннего западного солнца.
Нора не особо расстроилась, подала на развод, попутно подала документы в несколько аспирантур по всей России и, к своему удивлению, прошла по квоте в РГГУ. В конце следующего лета собрала манатки, обняла перед выходом из дома мать и отца, сделала ручкой ляху – и была такова.
Но это было тогда. А теперь… Теперь она понятия не имела, на каком этапе собственной жизни находится и куда двигаться дальше.
«Крайний» муж её был москвич – молодой, красивый, обеспеченный, умный. И, что важно, неженатый. Но, как выяснилось в процессе, маниакально ревнивый.
Последней каплей для Норы стал банальный поход в магазин.
Жили они тогда в его квартире на «Кутузе». Был выходной. Нора по привычке проснулась около шести утра, умылась, привела себя – плюс-минус – в порядок и пошла делать кофе. Но обнаружила, что он закончился. Недолго думая и без задней мысли, она начала собираться в «ночник», что находился в первом этаже их сталинки.
Когда Нора, стоя в прихожей, уже забиралась в пальто, из спальни вышел одетый Санька.
– Привет, – сказала Нора, предчувствуя, как к горлу подкатывает ярость. – А ты куда?
– Привет. Я с тобой, – угрюмо пробурчал Санька, глядя из-под лба.
– Куда со мной?
– А куда ты идёшь?
– Я... – и тут Нора потеряла контроль. Как же ей это осточертело! Какого хрена?! Я что, шлюха, по-твоему? В шесть утра убегаю втихаря из дома, чтобы что? Чтобы...
– Трахаться! – выпалила злобно Нора, вложив всё, что накипело в это единственное слово.
С тех пор как они поженились, Санька наложил на Нору систему правил и ограничений, которые, по сути, запрещали ей вообще всё, где физически не присутствовал он сам. Разумеется, это означало отказ от подруг и уж тем более от друзей.
Что, в целом, поначалу казалось ей переносимым. Даже, возможно, отчасти правильным – ведь семейная жизнь всё-таки. Теперь он мой единственный друг. Пусть так.
Но со временем Санькина паранойя набрала обороты. И дошло до того, что Норе вообще возбранялось выходить из дома без его сопровождения. А семейная жизнь тем временем никуда не двигалась: уже больше трёх лет Нора носила кольцо и очень хотела детей. Но дальше разговоров дело не шло. Лишь система ограничений становилась всё более изощрённой.
«Траха... – что? Что она сейчас сказала? Она что?!», – Санька замер, потеряв дар речи. Время шло, а он всё никак не мог сообразить, что это было. И тот момент, когда ещё можно было что-то ответить, чтобы хоть как-то разрулить ситуацию, остался далеко позади.
Видя его растерянность и очевидный испуг, Нора вскипела ещё сильнее.
– Если ты сейчас выйдешь со мной в эту дверь, – на одной ноте процедила она сквозь зубы, с металлическим звоном в голосе, – я подам на развод.
Но он вышел.
И вот уже полтора года, как Нора одна. После Саньки она окончательно разочаровалась в том, что люди называли «любовью», и просто переходила из одного дня в другой, как из одной пустой комнаты в другую – не надеясь обнаружить в следующей что-то или кого-то особенного: иной пейзаж, иные законы физики или новые константы мироздания.
В общем, грациозный стержень Норы надломился. И жизнь её постепенно перешла в состояние, если уж драматизировать до конца, близкое к вегетативному.
Сейчас около восьми вечера. Нора одна в своей наёмной хрущёвской клетке на «Севастопольской». Минут пятнадцать назад она вылезла из душа и теперь, одетая только в тонкую золотую цепочку на шее и другую – на лодыжке, лежит неподвижно на кровати, бессмысленно уставившись в потолок. Русые волосы, стриженные а-ля каре, обтекая, напитывают влагой подушку.
Какое ей до этого дело?
Завтра начнётся очередной ноябрь. Завтра начнётся очередной рабочий день. Завтра она проведёт очередные два с половиной – три часа своей жизни под землёй, в метро.
Завтра в очередной раз её начальница Женя будет разевать на неё свой лошадиный рот – по поводу и без. Завтра будут бесконечные звонки клиентов «в рамках “бесплатной городской консультации населения”». Завтра она снова не успеет пообедать, потому что Женя «попросит» – срочно! Завтра мать в десятый раз напомнит, что ей уже за тридцать, а «часики-то тикают».
Завтра по дороге домой какой-нибудь упоротый таджик или узбек будет пялиться на неё – из-за её золотых волос (со страха она их и подстригла под каре, чтобы меньше пялились), – будет пялиться, что есть мочи, думая, что таким образом он её… что? Загипнотизирует, что ли? И она сама прыгнет к нему в койку? Птьфу, мерзость! Хоть на такси езди. Хотя и в такси они… Ну, не все «гости» плохие, конечно. Но сколько новостей было, что домогались пассажирок? Ведь это уже перебор – банально страшно по городу передвигаться. Сесть в метро – не сядешь, одни «ценные иностранные специалисты» сидят, русского человека не увидишь. А увидишь – так радуешься, как встрече дорогого друга.
И это в Москве-то! Наполеону Москву не дали – сожгли. От немцев защищали и армией, и женщинами, и детьми. А этим – без боя сдали. Только и новостей о них, что с кого-то скальп сняли, кого-то на Китай-городе – в самом центре – зарезали ударом ножа в сердце; то женщину изнасиловали, то несовершеннолетнюю; то в метро домогаются, а потом избивают на камеру тех, кто заступился; то прямо на беговой дорожке девушку избили; то на дороге разборки устроили, то в парке барана режут, то на камеру на рельсы мочатся, то стреляют за то, что плечом толкнули; то целые банды сколачивают, чтобы «русню» для тик-тока избивать; то пьют, то дерутся, то буянят, то теракт, то СВО-шников убивают и выходят чистыми из воды; то в школах детей избивают, то запугивают, то унижают, то учителям угрожают, то в университетах шествия устраивают с призывами «русню рэзать», какие-то диаспоры по всей стране, за многожёнство борются, за никабы…
У всех всё нормально? Ничего не смущает? Два плюс два – сколько будет?
Жить – страшно. Это всё уже похоже на какую-то бойню, на выдавливание коренного населения, на оккупацию. Вялотекущую, растянутую на десятилетия, чтобы наивные не догадались раньше времени. А когда догадаются – чтобы поздно было. В каждом подъезде, в каждом доме, в каждом такси, в каждом автобусе, трамвае, вагоне метро… И у всех по диаспоре, по «учению», по «бойцовской философии». Живёшь и думаешь, что надо ехать куда-то отсюда, в другую страну, где безопаснее, где не так много «гостей». А если и много – то туда, где они живут по закону, а не по зову крови, бешенству гормонов и мифологии гор и аулов, с культурным уровнем козы, IQ капусты, неудовлетворённым основным инстинктом и промытыми мозгами. Перекрестишься на церковь, так тут же найдется тот, кто взглядом косым тебя одарит или вслед промычит: «Э-э-э, ты-ы?! Сьлишишь?!» И это в России! В Москве!
Расисткой меня называют, ксенофобкой, мол, ненависть разжигаю. Так а как не разжигать-то, когда жить страшно! В своей-то стране, за которую миллионами жизней плачено, целые поколения за неё животами да горбами своими заплатили, а жить – из-за «гостей» – страшно! Ксенофобка! Пошли в жопу, недоразвитые лизоблюды, соросята, «всемдобра» – бобра тебе, @@@! предатели, перебежчики, шкуры продажные, трусы! Это по вашему заказу, поди, на Рублёвке площадки под ПВО строят, чтоб замки ваши – с Тимуром честно заработанные – защитить. Конечно, на рублёвке «Панцири» нужнее, чем под Горловкой и Белгородом. Как бы там ни было, «гостей» же никто не выгоняет просто так, не преследует «за цвет кожи». Живите! Законы соблюдайте, уважайте ближнего своего, только и всего.
А наши-то мужики что? Наши тоже хороши. Каждый второй с жиру бесится. Обленились, распухли, обабились. Слабые, больные, безвольные. Прически по полтора часа в «барбершопах» делают, да из-за седого волоска на яйцах панические атаки ловят. Квартиры сдают – от бабушек и дедушек полученные – да по домам сидят, на доставках добреют. «Ставки на спорт!» Микрозаймы. А виноват во всём президент.
Нет, ну не на зеркало же пенять!
Другие аниме месяцами зырят – в японцев мутируют. Или в «танки» задрачиваются, брюхи отращивают. Или по кабакам да по шлюхам... Или, как писал Есенин, «на Марксе жиреют, как янки».
Нормального холостого мужика – днём с огнём не сыскать. Или Отечество ушёл защищать, или женат. А если и найдёшь, так на него десять пар глаз уже положено. И даром, что женат.
А бабы? И бабы туда же. Не любят и не ценят, всё думают, что следующий уж точно принцем будет! Следующий! Понимаешь?! Следующий! «Погоди, мол, милый, завтра же тебе замену подыщу! Следующий – он же точно под меня специально заточен!» Не владычицы морской это дело – под мужика своего приспосабливаться, холить его и лелеять. Не для того я в этот мир пришла! Нынче взгляды прогрессивные, феминистические. Матриархат, курва пердалёна!
Одна подруга вообще «метод» изобрела – фильтрующий. Чтобы не ждать «красных карточек» во время знакомств, не терять попусту время и силы, а сразу отсеивать неудачников. «Какая у тебя машина?» – с ходу спрашивает. Говорит, метод очень успешный. Ни разу её не подвёл. А что мужа до сих пор не нашла – так это потому, что нищеброды они все. Да и сама она слишком сложная, как та деталь пазла, у которой замысловатая форма и множество соединительных элементов. Но своего она не упустит, потому что точно знает: вселенная припасла ей именно её молодого человека. Потому что любовью всё движется, понимаешь? А чтобы любовь не погибала, сначала надо себя полюбить, смекаешь? Ох, Нора… Жаль мне тебя. Когда ты уже повзрослеешь?
Господи, что же такое случилось, что с нами стало? Сплошная гордыня, стяжательство, глупость, пошлость и разврат. Червонцу всё кланяемся да лёгкой наживы ищем, как Горбачёв, чтобы «тусоваться красиво».
Сегодня звонил один такой – «деньги делают деньги» который, – перевёл мошенникам восемь миллионов рублей – они обещали ему поднять тридцать процентов профита на крипте за три месяца. И вот уже полгода он ждёт обещанный профит, а от них – ни слуху ни духу.
– Как вы думаете, – говорит, – может быть, они меня обманули?
– Если человек идиот, – растянулись губы Норы в тонкой улыбке, – то это надолго, – наслаждаясь злорадными звуками собственного голоса, медленно, смакуя каждый обертон, пролепетала она в тишине.
Откуда вообще у таких идиотов берутся деньги? Он что, квартиру продал? Интересно, он женат? И что жене сказал? Ну, ладно, жена. А дети? Как он им в глаза смотрит? Ах-ха-ха!
А теперь звонит в «бесплатную» консультацию. Сэкономить десять тысяч пытается. Восемь лямов уже «сэкономил», теперь думает, что ему за просто так – «в рамках бесплатной городской консультации населения» – помогут их вернуть. Ну конечно!
Восемь лямов просрал, а так и не дошло до идиота: тут, в Москве, сплошные Робины и Гуды кругом. Только и думают о том, как бы справедливость восстановить поскорее. Как бы всех униженных и оскорблённых утешить. И чем больше сумма – тем больше думают. Чем больше думают – тем большими Робинами и Гудами становятся. Чем толще Робины, тем добрее Гуды.
Пентюх безмозглый. Нервы мне только поднял.
И тут, на волнах ненависти, злорадства и ехидства, в голову Норе влетело давнее воспоминание – въедливое, гаденькое, мучительное. Одно из тех, что во всю жизнь причиняют боль. Оцепенелую боль, иногда доводящую до судорог, до спазмов, до скрежета зубовного. Воспоминание о том, как она сама однажды, на ровном месте, «попалась». Даже не заметила как – но попалась.
Наивность ли? Судьба? Или что-то ещё? В смысле, «что-то ещё»?
И так ей стало стыдно: ещё секунду назад она осуждала этого несчастного мужика, пытавшегося срубить быстрые бабки и, возможно, потерявшего единственное, что у него было. Может, даже лишившего семью последнего, что у них оставалось.
А сама что? Жизнь – математичка, аксиоматически справедливая дама. Именно потому дама, что действительно справедливая. Слепая сила и алгебраическая точность. Всегда уравновесит. Любой перекос выправит. За любое бездействие – покарает. За любое зло – воздаст. Не тебе, так сыну твоему, дочери твоей, внуку твоему, псу твоему, если всё равно не доходит. Чем глубже залезешь – тем сильнее поводок одёрнет. Так одёрнет, что хрящи шейные повылетают из сочленений…
– Я тебя вижу… – прошипело воспоминание.
Прошипело где-то под потолком. Или под кроватью. Или в недрах разума. Или везде сразу. Повсюду:
– Я тебя вижу…
Нора тут же мысленно попыталась отогнать эту гадость, но воспоминание всё лезло и лезло – то с одной стороны, то с другой.
– Я тебя вижу… Я по твою душу! – шепелявил шёпоток, метаморфируясь из посторонней мысли в «гадость».
– Чего молчишь, дрянь? – ни с того ни с сего, выскочила «гадость» посреди мысленного диалога в самом неподходящем месте, растравив зарубцевавшиеся язвы.
– Я здесь, дрянь. Я вижу тебя. Ты меня не отпустила. Ты меня не забыла. Ты меня не простила. Ты меня держишь. Я тебе необходима. Ты дорожишь моей тяжестью. Тебе нравится гореть в моём пламени. Тебе нравится то, что я с тобой проделываю. Ты не уйдёшь от меня. Я останусь с тобой до донца. И буду драть и драть, и дрючить тебя, милая моя Нора. Трахать буду так, что брызги лететь будут...
И рано или поздно Нора сдавалась. Позволяла себе снова пережить этот позор, эту обиду, унижение, осквернение, насилие – лишь бы эта гадость, хотя бы на время, отстала.
Случилось это «воспоминание» ещё в школьные годы. Началось в начале лета, накануне одиннадцатого класса. То есть накануне совершеннолетия Норы: третьего сентября ей должно было исполниться восемнадцать. Родители отдали Нору в школу в восемь лет – по рекомендации психолога. Тот утверждал, что год назад она была ещё слишком «маленькая» для учёбы (равно как и два года назад). Хотя в свои семь Нора уже свободно читала и на русском, и на белорусском, и без труда писала печатными буквами.
Так вот, тем злополучным летом – последними летними каникулами в жизни – Нора отправилась из Минска в Мариуполь вместе с отцом – на его малую родину. Поближе к солнцу, морю, свежему воздуху и семейной ностальгии.
В Мариуполе у них был небольшой двухэтажный домик на окраине. На первом этаже располагалась мебельная мастерская. Когда-то она работала круглый год, но теперь отец открывал её только на лето.
Остальное время семья Норы жила в Минске. Мама преподавала «зарубежку» на кафедре зарубежной литературы в «Инязе», а отец держал несколько торговых точек на «Экспобеле» и «Ждановичах».
На лето он передавал дела своему заместителю – двоюродному брату, который большую часть года жил в Мариуполе и присматривал за домом шефа, пустующим в его отсутствие.
Мать собиралась приехать в середине июля и остаться с ними до конца августа.
Окна комнаты, в которой жила Нора, выходили со второго этажа в сад, поэтому почти всегда оставались распахнуты – во имя свежего воздуха, ярких запахов и пения птиц. Обстановка, по современным меркам, более тяготела к спартанскому, так сказать, «стилю»: стол у окна, полутораметровая кровать у стены, книжный шкаф, трюмо, небольшой чайный столик, несколько стульев, пуф – и, пожалуй, всё. Ах, да – пол скрипел.
Нора просыпалась рано, приводила себя в порядок и помогала отцу в мастерской. Иногда по его поручениям ходила пешком в город, иногда ездила на велике, а порой вдвоём с отцом на чёрном универсале Nissan Primera 1996 года они выбирались по делам.
Развозили или принимали заказы на мебель (столы, стулья, табуреты, полки, комоды, тумбочки, двери, перегородки), декор и аксессуары (рамки для картин и зеркал, деревянные панно, часы, светильники, подставки для книг, вина), кухонные принадлежности (разделочные доски, ложки, вилки, лопатки, бочонки, кадки, хлебницы, конфетницы, подставки под горячее), игрушки и настольные игры (деревянные головоломки, конструкторы, машинки, шахматы, нарды, шашки, калейдоскопы, музыкальные шкатулки), изделия для реконструкторов и развлечений (луки, мечи, щиты)... Встречались с друзьями, родственниками, знакомыми, покупали продукты, чинили или приобретали инструменты, ходили на пляж, бездельничали.
В то время Нора мало интересовалась мальчиками, пацанами, молодыми людьми, мужчинами, мужиками, дискотеками, клубами, тусовками, компаниями и прочим добром, которым были одержимы поголовно все её ровесники. В этом смысле она ещё была, что называется, невинным ребёнком.
Её светлый мир юного мечтателя вращался вокруг мамы и папы (Нора была единственным ребёнком в семье), лошадок, котиков-собачек, живописи, музыки и книг. В детстве это были книги про динозавров, акул, морские водоросли, кораллы, вулканы, фьорды.
Но однажды она прочла Стейнбека «Квартал Тортилья-Флэт», и любовь – случилась. Примерно так же, как случается событие философии.
С тех пор она обожала Толстого, Достоевского, Чехова, Шолохова, Булгакова, Маяковского, Есенина, Цветаеву и Блока. Шанавала Яна Баршчэўскага, Багдановіча, Гілевіча, Купалу і Коласа, Васіля Быкава і Уладзіміра Караткевіча. Стендаля, Драйзера, Войнич. Селина, Стейнбека, Сэлинджера. Диккенса, Уайльда, Мервина Пика. «Гарри Поттера», «Хоббита», «Властелина колец» и вообще всю «вселенную фэнтези».
Её любимыми зарубежными художниками были, в порядке убывания обожания, Мунк, Гоген, Ван Гог, Пикассо, Клод Моне, Анри де Тулуз-Лотрек, а также Эгон Шиле, Фридрих Каспар Давид, Одилон Редон, Фрэнсис Бэкон, Густав Климт, Поль Сезанн и Диего Ривера.
Среди русских художников Нора считала гением всех времён и народов Врубеля, за ним в её списке шли Шагал, Айвазовский, Борис Григорьев, Илья Репин, а также Кузьма Петров-Водкин, Павел Филонов, Александр Бенуа, Николай Фешин, Валентин Серов, Василий Верещагин и Николай Рерих.
Что касается музыки, Бах для неё был вне конкуренции – Бах стоял по-над всем. Его Токкату и фугу ре-минор и ораторию Страсти по Матфею она считала вершиной музыкального гения человечества.
Следом за Бахом в её сердечной иерархии шли Моцарт (особую любовь она питала к Симфониям № 25 и № 40, Арии Царицы ночи и Реквиему), Бетховен, Вивальди, Хачатурян, Рахманинов, Чайковский, Шопен, Лист, Шостакович, Глюк, а также Дебюсси, Малер, Скрябин, Брукнер, Гендель, Стравинский и Прокофьев.
Она и сама неплохо владела фортепиано. Особенно любила Венгерскую рапсодию №2 Листа – где в пассажах и модуляциях слышатся ритмы и интонации, напоминающие русские народные пляски. Как будто бы «Калинка» проглядывает. Хотя, «Калинка, – это, конечно, чисто русский мотив, но в рапсодиях Листа, построенных на венгерском фольклоре, есть что-то общее с русской музыкальной традицией: та же экспрессия, тот же разгон от задумчивого напева к вихрю. Лист вдохновлялся венгерскими цыганскими мелодиями, а в цыганской музыке, как и в русской, есть свойственная ей плавность переходов от минорной тоски к бешеному танцу. Вот, наверное, откуда это ощущение – как будто на секунду мелькает «Калинка», но тут же растворяется в венгерском вихре.
Также Нору восхищали шесть фортепианных пьес Листа – Grandes études de Paganini, основанных на музыке выдающегося итальянского скрипача и композитора Никколо Паганини. В частности, её сводил с ума этюд № 3 – La Campanella.
Кроме того, Нора заслушала и заиграла до дыр на своём стареньком пианино L. Hoeven, вывезенном её прадедом из Берлина в 45-м в качестве трофея, «школьную» пьесу Фрица Крейслера – Муки любви.
Из исполнителей Нора была без ума от Бернда Крюгера, которого считала гением. Её восхищение распространялось и на Дениса Мацуева – русского пианиста-виртуоза.
Но всё изменилось тем злополучным летом в Мариуполе, когда она одна, без отца, была на пляже. И к ней подошёл Кисиль Олег.
Олегу было за тридцать (на самом деле 39). Он носил очки-«спичечные коробки», залысину, был невысокого роста, худощав, с длинными тонкими пальцами. Всегда таскал на шее фотоаппарат с огромным съёмным объективом и немало смахивал на перезревшего ботана-зубрилу, который сошёл с ума и в полнолуние орудует ножиком в тёмных подворотнях, оврагах и на пустырях, нашёптывая себе под нос:
– Вышел ёжик из тумана,
вынул ножик из кармана,
вынул камешки и мел,
улыбнулся, как сумел,
подарил мне всё, что вынул –
и опять в тумане сгинул.
Но в те дни Нора не отличалась особой проницательностью. Она стремилась наделять людей теми качествами, которые, как ей казалось, им более всего подходили. Ибо её окультуренное подсознание, ещё не успевшее пройти обкатку реальностью, раз за разом накладывало на мир самое себя, и потому Нора во всём видела, скорее, отражение своего собственного «Я», чем действительность как таковую, со всей её неопределенностью, двойственностью, несовершенством, хаотичностью, подвижностью, безразличием, двоемирием, текучестью, размазанностью, уродствами, отчаянием, насилием, цинизмом, перекосами, унынием, искушениями и гордыней.
Так было и с Олегом Кисилем.
В тот день Норе показалось, что она разглядела в нём утончённую натуру художника – страдающего от непонимания и отторжения жестоким миром позднего капитализма. Что, разумеется, с реальным положением вещей не имело ничего общего.
– Дура! – кричала она всякий раз сама на себя, доходя до этого момента воспоминания. – Дура! Да присмотрись ты повнимательнее!
Но Нора из воспоминания только улыбалась, отводила глаза и краснела до кончиков ушей.
– Ох, дурная девка! – вопила нынешняя Нора, сжимая и дергая мокрые волосы холодными пальцами, снова впитывая в кровь боль и отчаяние за ту, молодую Нору. – Да включи ты свою мозговню!
Но «мозговня» Норы из воспоминания, как и прежде, не обладала нейронной сеткой, пригодной для анализа происходящего. Поэтому обе Норы просто смотрели на свои тонкие колени, на ладони, свернувшиеся в маленькие карамельные кулачки, – и слушали.
И если нынешняя Нора, слушая, погружалась в жуть, то Нора из воспоминания – удивлялась, смущалась и таяла. И не могла поверить тому, что слышала. И пыталась сопоставить и соотнести всё, что слышала с собой. И ещё больше удивлялась. И ещё внимательнее слушала. И ещё глубже молчала. И ещё сильнее краснела.
А Олег уже понял, что нашёл именно то, что искал. И включать заднюю не собирался.
– Не отводи взгляд! – приказало воспоминание нынешней Норе. – Не смей! А то начну всё заново!
– Хорошо, – покорно, на выдохе, ответила, повесив голову, нынешняя Нора.
– Умница, – шипело, как сковорода с подгорающим беконом, воспоминание.
Их знакомство произошло на пляже.
С расстояния примерно в полтора метра Олег сфотографировал одиноко сидящую на покрывале Нору. Мёртвое веко объектива – словно глаз мерзкой рептилии – бесшумно моргнуло.
Удивлённая, немного испуганная, Нора прижала руки к груди, подалась назад и откинула голову, будто что-то вырвалось из объектива и когтистой лапой полоснуло её лёгкую душу. Однако на уровне сознания Нора этого не заметила.
Через миг округлённый карий взгляд Норы встретился с мутно-голубыми, подёрнутыми фиолетовой паутиной глазами Олега.
Тот сразу бросился извиняться. Объяснять, что не мог устоять. Что она – удивительная. Что её чудесная поза свела его с ума своей естественностью… Что он не мог не поддаться искушению… Что должен был запечатлеть миг торжества красоты в вечности… Что он – простой художник, а она… она Армида. Нет-нет, ангел… Её золотые волосы, солнечный свет, блики кофейных зёрен пляжного песка… ослепительная грация, тонкость запястий, крошечные золотистые песчинки на лодыжках… Она – просто божественна. И этот момент нельзя было упустить. Возможно, упустить навсегда… И что если она только пожелает – он тут же удалит фотографию, попросит прощения, сделает всё, что в силах человека и художника, чтобы загладить свою вину перед прекрасной незнакомкой…
Но, добавил он, лишь после того, как прекрасная незнакомка согласится сама взглянуть на фотографию.
И, повернув чёрную коробку, висящую на его сухой шее, дисплеем к Норе, он ловко, почти незаметно, двумя низкими прыжками – что твоя водомерка – скользнул по поверхности пляжного песка к оглушенной девушке.
Пока Нора смотрела на дисплей, её слух наполнялся низкими бархатистыми обертонами его голоса.
Не менее десяти раз сознание Норы уловило слово «красавица». Слово «глаза» прозвучало не менее семи раз. Слово «ослепительна» заставило дрогнуть сознание Норы минимум трижды. Слово «сердце» в сочетании со словом «чаще» прозвучало не менее пяти раз. Слово «божественное» прозвучало, склоняемое по всем существующим, вышедшим из употребления или несуществующим в принципе в русском языке падежам, не менее пятнадцати раз.
Слова «готов», «ради», «на» и «всё», казалось, звучат без перерыва. Хотя на самом деле, как теперь понимала нынешняя Нора, Олег ничего подобного не произносил вовсе.
Между тем фотография была крайне неудачной:
– Композиция: главный объект (Нора) смещён, плохо выделяется на перегруженном фоне – загар сливается с цветом песка.
– Экспозиция: солнечные блики переэкспонировали кадр, пересветы на коже и покрывале.
– Размытость: автофокус «схватил» фон или фокусировка была настроена неправильно – теперь уже не узнать.
– Угол съёмки: низкий ракурс исказил пропорции тела и лица.
– Шум: высокие ISO добавили зернистость и ухудшили качество.
– Цвет: неправильный баланс белого исказил оттенки кожи и песка.
Но, вопреки криворукости фотографа, слова, проникавшие на волнах бархатного голоса Олега, точно мертвецы по водам Ахерона, прямо в мозг Норы, казалось, меняли само изображение. Нора смотрела на фото – и действительно видела существо божественной красоты, бессмертное творение вселенной, воплощение света и гармонии, материализовавшееся посреди мариупольского пляжа.
Нора смотрела и смотрела – и не видела себя – нечто неземное в ответ вглядывалось в неё из недр светотеней и геометрии этого поразительного изображения, что-то, что только настоящий художник мог заметить, оценить и, не убоясь уголовного срока, запечатлеть без дозволения и спроса.
О, эти старые добрые художники и их сальные фотоаппараты, пропахшие кровью, потом и чем-то ещё – чем-то, от чего жуть чёрным холодом ворочается в сердечниках костей.
Как часто возникают эти любвеобильные херувимы, будто из тумана, жарким выходным днём, примерно в полдень – у детских каруселей с лошадками, у фонтанов, у ларьков со сладкой ватой или в тени столетних тополей, на той самой аллее, где на скамеечках отдыхают умаявшиеся родители и их чада.
Как часто носят это непризнанные гении изобразительного – или какого там ещё – ремесла чёрные очки, натянутую на глаза кепку, обвисшее брюхо, сосисочные, поросшие чёрными колечками волос, пальцы, и сальные патлы.
И фотографируют, и фотографируют… И изучают, и запоминают… И улыбаются – и что-то там, в глубоких карманах брюк, почёсывают…
А потом, спустя неделю, на какой-нибудь детской площадке подходят к ребёнку и говорят что-то вроде: «Твой папа или мама попали в беду… Из-за того, что ты так долго не хотел слазить с лошадки в прошлое воскресенье. Помнишь? В Парке Горького? Ага? Пошли быстрее, если хочешь помочь. Твоя мама очень просила, чтобы я привёл тебя как можно скорее».
И ребёнок идёт за «художником», садится к нему в машину, пытаясь воскресить в перепуганном воображении сцену с лошадками в прошлое воскресенье – и всё никак не может понять: что же он сделал не так? Скорее бы, скорее бы увидеть маму, думает он и мысленно благодарит доброго художника, который вызвался помочь ему и его маме.
Спасибо, – повторяет он про себя, не подозревая о том, что автомобиль, в котором он сейчас едет по проспекту, – уже не автомобиль, а ладья Харона, а проспект – уже не проспект, а Стикс, а на том берегу его ждёт не мама, но самый что ни на есть ад с чудовищными пытками, невыносимой болью и отсутствием всякой надежды на избавление.
Ох уж эти мне художники… С их тонкой душевной организацией и лагерями смерти, если что-то пошло не так.
Но что такое дурацкие, надуманные подозрения, тем более беспочвенные обвинения в домогательствах, – думалось Норе из воспоминания, – перед чудовищной опасностью упустить шедевр, допустить распад красоты, исчезновение в небытии произведения искусства, созданного самой Вселенной?
Как та волна, что навсегда стёрла из сокровищницы человечества картину Пикассо, которую именитый творец однажды ради забавы «написал» на пляжном песке. Разве я могу себе позволить превратиться в эту волну?
Ведь и теперь то же: единственным, кто мог спасти от распада шедевр, созданный самой матерью-природой, был, разумеется, Олег. И всё, что от него требовалось, – преодолеть застенчивость, стыд и страх обвинений в посягательстве на честь и достоинство самой «натурщицы», которая в этот момент даже не подозревала о великой роли, которую отвело ей мироздание. О великой чести, оказанной ей эстетическим откровением – матерью этики.
Мироздание, конечно же, явило свою бессмертную волю и великое милосердие, разместив Нору в этой точке пляжа – под этим солнцем, под облаками, создающими подходящие тени, под этим ветром, едва колышущим её золотые волосы, – в сердце этого знойного полдня, в котором само время остановилось.
И появился он – художник, совершенно случайно или же вовсе не случайно, но, напротив, влекомый и направляемый могучим перстом самой Судьбы, будто реинкарнация великого Тулуз-Лотрека или невероятного Поля Гогена…
А она – будто Дориан Грей… Нет, не то.
Короче говоря, Нора попалась – точно так же, как попался на восемь лимонов мужик из «бесплатной городской консультации населения»...
– Беги, дура проклятая! – орала нынешняя Нора Норе из воспоминания. – Врежь ему по роже и беги! Достань ключи из сумочки, положи в ладонь и врежь этой самой ладонью с ключами – так, чтобы ключи разворотили своими острыми краями его рептилоидные глазницы, – врежь, прямо по его поганой роже и беги!
– Умолкни! – шикнуло воспоминание. – Умолкни и смотри!
И Нора, чувствуя болезненное, угнетающее и ужасающее возбуждение, от которого невозможно сбежать, становилась как будто меньше, беспомощнее, слабее. Она съёживалась, повинуясь голосу воспоминания, умолкала. Листва её сворачивалась и желтела, а ствол становился мягким и податливым.
И воспоминание обрело всю полноту власти над нынешней, несчастной семнадцатилетней девочкой, мечтающей о красивой свадьбе и гениальных детишках, которых она обязательно научит тому, что уже знает сама, но чего, конечно же, не знают и чему не научили её родители.
На мариупольском пляже уже растянулась заря. Измазанное кровью небо – дёшево и по́шло, как нищая музыка в радиоприёмниках таксистов – создавало атмосферу привычности, «знакомости», а оттого ложного доверия и симуляционного уюта.
Олег предложил Норе подвезти её до дома. Она согласилась.
Сноски:
[1] Лёха Никонов
© Aldebaran 2025.
© Новиков Артур.
А теперь звонит в «бесплатную» консультацию. Сэкономить десять тысяч пытается. Восемь лямов уже «сэкономил», теперь думает, что ему за просто так – «в рамках бесплатной городской консультации населения» – помогут их вернуть. Ну конечно!
Восемь лямов просрал, а так и не дошло до идиота: тут, в Москве, сплошные Робины и Гуды кругом. Только и думают о том, как бы справедливость восстановить поскорее. Как бы всех униженных и оскорблённых утешить. И чем больше сумма – тем больше думают. Чем больше думают – тем большими Робинами и Гудами становятся. Чем толще Робины, тем добрее Гуды.
Пентюх безмозглый. Нервы мне только поднял.
И тут, на волнах ненависти, злорадства и ехидства, в голову Норе влетело давнее воспоминание – въедливое, гаденькое, мучительное. Одно из тех, что во всю жизнь причиняют боль. Оцепенелую боль, иногда доводящую до судорог, до спазмов, до скрежета зубовного. Воспоминание о том, как она сама однажды, на ровном месте, «попалась». Даже не заметила как – но попалась.
Наивность ли? Судьба? Или что-то ещё? В смысле, «что-то ещё»?
И так ей стало стыдно: ещё секунду назад она осуждала этого несчастного мужика, пытавшегося срубить быстрые бабки и, возможно, потерявшего единственное, что у него было. Может, даже лишившего семью последнего, что у них оставалось.
А сама что? Жизнь – математичка, аксиоматически справедливая дама. Именно потому дама, что действительно справедливая. Слепая сила и алгебраическая точность. Всегда уравновесит. Любой перекос выправит. За любое бездействие – покарает. За любое зло – воздаст. Не тебе, так сыну твоему, дочери твоей, внуку твоему, псу твоему, если всё равно не доходит. Чем глубже залезешь – тем сильнее поводок одёрнет. Так одёрнет, что хрящи шейные повылетают из сочленений…
– Я тебя вижу… – прошипело воспоминание.
Прошипело где-то под потолком. Или под кроватью. Или в недрах разума. Или везде сразу. Повсюду:
– Я тебя вижу…
Нора тут же мысленно попыталась отогнать эту гадость, но воспоминание всё лезло и лезло – то с одной стороны, то с другой.
– Я тебя вижу… Я по твою душу! – шепелявил шёпоток, метаморфируясь из посторонней мысли в «гадость».
– Чего молчишь, дрянь? – ни с того ни с сего, выскочила «гадость» посреди мысленного диалога в самом неподходящем месте, растравив зарубцевавшиеся язвы.
– Я здесь, дрянь. Я вижу тебя. Ты меня не отпустила. Ты меня не забыла. Ты меня не простила. Ты меня держишь. Я тебе необходима. Ты дорожишь моей тяжестью. Тебе нравится гореть в моём пламени. Тебе нравится то, что я с тобой проделываю. Ты не уйдёшь от меня. Я останусь с тобой до донца. И буду драть и драть, и дрючить тебя, милая моя Нора. Трахать буду так, что брызги лететь будут...
И рано или поздно Нора сдавалась. Позволяла себе снова пережить этот позор, эту обиду, унижение, осквернение, насилие – лишь бы эта гадость, хотя бы на время, отстала.
Случилось это «воспоминание» ещё в школьные годы. Началось в начале лета, накануне одиннадцатого класса. То есть накануне совершеннолетия Норы: третьего сентября ей должно было исполниться восемнадцать. Родители отдали Нору в школу в восемь лет – по рекомендации психолога. Тот утверждал, что год назад она была ещё слишком «маленькая» для учёбы (равно как и два года назад). Хотя в свои семь Нора уже свободно читала и на русском, и на белорусском, и без труда писала печатными буквами.
Так вот, тем злополучным летом – последними летними каникулами в жизни – Нора отправилась из Минска в Мариуполь вместе с отцом – на его малую родину. Поближе к солнцу, морю, свежему воздуху и семейной ностальгии.
В Мариуполе у них был небольшой двухэтажный домик на окраине. На первом этаже располагалась мебельная мастерская. Когда-то она работала круглый год, но теперь отец открывал её только на лето.
Остальное время семья Норы жила в Минске. Мама преподавала «зарубежку» на кафедре зарубежной литературы в «Инязе», а отец держал несколько торговых точек на «Экспобеле» и «Ждановичах».
На лето он передавал дела своему заместителю – двоюродному брату, который большую часть года жил в Мариуполе и присматривал за домом шефа, пустующим в его отсутствие.
Мать собиралась приехать в середине июля и остаться с ними до конца августа.
Окна комнаты, в которой жила Нора, выходили со второго этажа в сад, поэтому почти всегда оставались распахнуты – во имя свежего воздуха, ярких запахов и пения птиц. Обстановка, по современным меркам, более тяготела к спартанскому, так сказать, «стилю»: стол у окна, полутораметровая кровать у стены, книжный шкаф, трюмо, небольшой чайный столик, несколько стульев, пуф – и, пожалуй, всё. Ах, да – пол скрипел.
Нора просыпалась рано, приводила себя в порядок и помогала отцу в мастерской. Иногда по его поручениям ходила пешком в город, иногда ездила на велике, а порой вдвоём с отцом на чёрном универсале Nissan Primera 1996 года они выбирались по делам.
Развозили или принимали заказы на мебель (столы, стулья, табуреты, полки, комоды, тумбочки, двери, перегородки), декор и аксессуары (рамки для картин и зеркал, деревянные панно, часы, светильники, подставки для книг, вина), кухонные принадлежности (разделочные доски, ложки, вилки, лопатки, бочонки, кадки, хлебницы, конфетницы, подставки под горячее), игрушки и настольные игры (деревянные головоломки, конструкторы, машинки, шахматы, нарды, шашки, калейдоскопы, музыкальные шкатулки), изделия для реконструкторов и развлечений (луки, мечи, щиты)... Встречались с друзьями, родственниками, знакомыми, покупали продукты, чинили или приобретали инструменты, ходили на пляж, бездельничали.
В то время Нора мало интересовалась мальчиками, пацанами, молодыми людьми, мужчинами, мужиками, дискотеками, клубами, тусовками, компаниями и прочим добром, которым были одержимы поголовно все её ровесники. В этом смысле она ещё была, что называется, невинным ребёнком.
Её светлый мир юного мечтателя вращался вокруг мамы и папы (Нора была единственным ребёнком в семье), лошадок, котиков-собачек, живописи, музыки и книг. В детстве это были книги про динозавров, акул, морские водоросли, кораллы, вулканы, фьорды.
Но однажды она прочла Стейнбека «Квартал Тортилья-Флэт», и любовь – случилась. Примерно так же, как случается событие философии.
С тех пор она обожала Толстого, Достоевского, Чехова, Шолохова, Булгакова, Маяковского, Есенина, Цветаеву и Блока. Шанавала Яна Баршчэўскага, Багдановіча, Гілевіча, Купалу і Коласа, Васіля Быкава і Уладзіміра Караткевіча. Стендаля, Драйзера, Войнич. Селина, Стейнбека, Сэлинджера. Диккенса, Уайльда, Мервина Пика. «Гарри Поттера», «Хоббита», «Властелина колец» и вообще всю «вселенную фэнтези».
Её любимыми зарубежными художниками были, в порядке убывания обожания, Мунк, Гоген, Ван Гог, Пикассо, Клод Моне, Анри де Тулуз-Лотрек, а также Эгон Шиле, Фридрих Каспар Давид, Одилон Редон, Фрэнсис Бэкон, Густав Климт, Поль Сезанн и Диего Ривера.
Среди русских художников Нора считала гением всех времён и народов Врубеля, за ним в её списке шли Шагал, Айвазовский, Борис Григорьев, Илья Репин, а также Кузьма Петров-Водкин, Павел Филонов, Александр Бенуа, Николай Фешин, Валентин Серов, Василий Верещагин и Николай Рерих.
Что касается музыки, Бах для неё был вне конкуренции – Бах стоял по-над всем. Его Токкату и фугу ре-минор и ораторию Страсти по Матфею она считала вершиной музыкального гения человечества.
Следом за Бахом в её сердечной иерархии шли Моцарт (особую любовь она питала к Симфониям № 25 и № 40, Арии Царицы ночи и Реквиему), Бетховен, Вивальди, Хачатурян, Рахманинов, Чайковский, Шопен, Лист, Шостакович, Глюк, а также Дебюсси, Малер, Скрябин, Брукнер, Гендель, Стравинский и Прокофьев.
Она и сама неплохо владела фортепиано. Особенно любила Венгерскую рапсодию №2 Листа – где в пассажах и модуляциях слышатся ритмы и интонации, напоминающие русские народные пляски. Как будто бы «Калинка» проглядывает. Хотя, «Калинка, – это, конечно, чисто русский мотив, но в рапсодиях Листа, построенных на венгерском фольклоре, есть что-то общее с русской музыкальной традицией: та же экспрессия, тот же разгон от задумчивого напева к вихрю. Лист вдохновлялся венгерскими цыганскими мелодиями, а в цыганской музыке, как и в русской, есть свойственная ей плавность переходов от минорной тоски к бешеному танцу. Вот, наверное, откуда это ощущение – как будто на секунду мелькает «Калинка», но тут же растворяется в венгерском вихре.
Также Нору восхищали шесть фортепианных пьес Листа – Grandes études de Paganini, основанных на музыке выдающегося итальянского скрипача и композитора Никколо Паганини. В частности, её сводил с ума этюд № 3 – La Campanella.
Кроме того, Нора заслушала и заиграла до дыр на своём стареньком пианино L. Hoeven, вывезенном её прадедом из Берлина в 45-м в качестве трофея, «школьную» пьесу Фрица Крейслера – Муки любви.
Из исполнителей Нора была без ума от Бернда Крюгера, которого считала гением. Её восхищение распространялось и на Дениса Мацуева – русского пианиста-виртуоза.
Но всё изменилось тем злополучным летом в Мариуполе, когда она одна, без отца, была на пляже. И к ней подошёл Кисиль Олег.
Олегу было за тридцать (на самом деле 39). Он носил очки-«спичечные коробки», залысину, был невысокого роста, худощав, с длинными тонкими пальцами. Всегда таскал на шее фотоаппарат с огромным съёмным объективом и немало смахивал на перезревшего ботана-зубрилу, который сошёл с ума и в полнолуние орудует ножиком в тёмных подворотнях, оврагах и на пустырях, нашёптывая себе под нос:
– Вышел ёжик из тумана,
вынул ножик из кармана,
вынул камешки и мел,
улыбнулся, как сумел,
подарил мне всё, что вынул –
и опять в тумане сгинул.
Но в те дни Нора не отличалась особой проницательностью. Она стремилась наделять людей теми качествами, которые, как ей казалось, им более всего подходили. Ибо её окультуренное подсознание, ещё не успевшее пройти обкатку реальностью, раз за разом накладывало на мир самое себя, и потому Нора во всём видела, скорее, отражение своего собственного «Я», чем действительность как таковую, со всей её неопределенностью, двойственностью, несовершенством, хаотичностью, подвижностью, безразличием, двоемирием, текучестью, размазанностью, уродствами, отчаянием, насилием, цинизмом, перекосами, унынием, искушениями и гордыней.
Так было и с Олегом Кисилем.
В тот день Норе показалось, что она разглядела в нём утончённую натуру художника – страдающего от непонимания и отторжения жестоким миром позднего капитализма. Что, разумеется, с реальным положением вещей не имело ничего общего.
– Дура! – кричала она всякий раз сама на себя, доходя до этого момента воспоминания. – Дура! Да присмотрись ты повнимательнее!
Но Нора из воспоминания только улыбалась, отводила глаза и краснела до кончиков ушей.
– Ох, дурная девка! – вопила нынешняя Нора, сжимая и дергая мокрые волосы холодными пальцами, снова впитывая в кровь боль и отчаяние за ту, молодую Нору. – Да включи ты свою мозговню!
Но «мозговня» Норы из воспоминания, как и прежде, не обладала нейронной сеткой, пригодной для анализа происходящего. Поэтому обе Норы просто смотрели на свои тонкие колени, на ладони, свернувшиеся в маленькие карамельные кулачки, – и слушали.
И если нынешняя Нора, слушая, погружалась в жуть, то Нора из воспоминания – удивлялась, смущалась и таяла. И не могла поверить тому, что слышала. И пыталась сопоставить и соотнести всё, что слышала с собой. И ещё больше удивлялась. И ещё внимательнее слушала. И ещё глубже молчала. И ещё сильнее краснела.
А Олег уже понял, что нашёл именно то, что искал. И включать заднюю не собирался.
– Не отводи взгляд! – приказало воспоминание нынешней Норе. – Не смей! А то начну всё заново!
– Хорошо, – покорно, на выдохе, ответила, повесив голову, нынешняя Нора.
– Умница, – шипело, как сковорода с подгорающим беконом, воспоминание.
Их знакомство произошло на пляже.
С расстояния примерно в полтора метра Олег сфотографировал одиноко сидящую на покрывале Нору. Мёртвое веко объектива – словно глаз мерзкой рептилии – бесшумно моргнуло.
Удивлённая, немного испуганная, Нора прижала руки к груди, подалась назад и откинула голову, будто что-то вырвалось из объектива и когтистой лапой полоснуло её лёгкую душу. Однако на уровне сознания Нора этого не заметила.
Через миг округлённый карий взгляд Норы встретился с мутно-голубыми, подёрнутыми фиолетовой паутиной глазами Олега.
Тот сразу бросился извиняться. Объяснять, что не мог устоять. Что она – удивительная. Что её чудесная поза свела его с ума своей естественностью… Что он не мог не поддаться искушению… Что должен был запечатлеть миг торжества красоты в вечности… Что он – простой художник, а она… она Армида. Нет-нет, ангел… Её золотые волосы, солнечный свет, блики кофейных зёрен пляжного песка… ослепительная грация, тонкость запястий, крошечные золотистые песчинки на лодыжках… Она – просто божественна. И этот момент нельзя было упустить. Возможно, упустить навсегда… И что если она только пожелает – он тут же удалит фотографию, попросит прощения, сделает всё, что в силах человека и художника, чтобы загладить свою вину перед прекрасной незнакомкой…
Но, добавил он, лишь после того, как прекрасная незнакомка согласится сама взглянуть на фотографию.
И, повернув чёрную коробку, висящую на его сухой шее, дисплеем к Норе, он ловко, почти незаметно, двумя низкими прыжками – что твоя водомерка – скользнул по поверхности пляжного песка к оглушенной девушке.
Пока Нора смотрела на дисплей, её слух наполнялся низкими бархатистыми обертонами его голоса.
Не менее десяти раз сознание Норы уловило слово «красавица». Слово «глаза» прозвучало не менее семи раз. Слово «ослепительна» заставило дрогнуть сознание Норы минимум трижды. Слово «сердце» в сочетании со словом «чаще» прозвучало не менее пяти раз. Слово «божественное» прозвучало, склоняемое по всем существующим, вышедшим из употребления или несуществующим в принципе в русском языке падежам, не менее пятнадцати раз.
Слова «готов», «ради», «на» и «всё», казалось, звучат без перерыва. Хотя на самом деле, как теперь понимала нынешняя Нора, Олег ничего подобного не произносил вовсе.
Между тем фотография была крайне неудачной:
– Композиция: главный объект (Нора) смещён, плохо выделяется на перегруженном фоне – загар сливается с цветом песка.
– Экспозиция: солнечные блики переэкспонировали кадр, пересветы на коже и покрывале.
– Размытость: автофокус «схватил» фон или фокусировка была настроена неправильно – теперь уже не узнать.
– Угол съёмки: низкий ракурс исказил пропорции тела и лица.
– Шум: высокие ISO добавили зернистость и ухудшили качество.
– Цвет: неправильный баланс белого исказил оттенки кожи и песка.
Но, вопреки криворукости фотографа, слова, проникавшие на волнах бархатного голоса Олега, точно мертвецы по водам Ахерона, прямо в мозг Норы, казалось, меняли само изображение. Нора смотрела на фото – и действительно видела существо божественной красоты, бессмертное творение вселенной, воплощение света и гармонии, материализовавшееся посреди мариупольского пляжа.
Нора смотрела и смотрела – и не видела себя – нечто неземное в ответ вглядывалось в неё из недр светотеней и геометрии этого поразительного изображения, что-то, что только настоящий художник мог заметить, оценить и, не убоясь уголовного срока, запечатлеть без дозволения и спроса.
О, эти старые добрые художники и их сальные фотоаппараты, пропахшие кровью, потом и чем-то ещё – чем-то, от чего жуть чёрным холодом ворочается в сердечниках костей.
Как часто возникают эти любвеобильные херувимы, будто из тумана, жарким выходным днём, примерно в полдень – у детских каруселей с лошадками, у фонтанов, у ларьков со сладкой ватой или в тени столетних тополей, на той самой аллее, где на скамеечках отдыхают умаявшиеся родители и их чада.
Как часто носят это непризнанные гении изобразительного – или какого там ещё – ремесла чёрные очки, натянутую на глаза кепку, обвисшее брюхо, сосисочные, поросшие чёрными колечками волос, пальцы, и сальные патлы.
И фотографируют, и фотографируют… И изучают, и запоминают… И улыбаются – и что-то там, в глубоких карманах брюк, почёсывают…
А потом, спустя неделю, на какой-нибудь детской площадке подходят к ребёнку и говорят что-то вроде: «Твой папа или мама попали в беду… Из-за того, что ты так долго не хотел слазить с лошадки в прошлое воскресенье. Помнишь? В Парке Горького? Ага? Пошли быстрее, если хочешь помочь. Твоя мама очень просила, чтобы я привёл тебя как можно скорее».
И ребёнок идёт за «художником», садится к нему в машину, пытаясь воскресить в перепуганном воображении сцену с лошадками в прошлое воскресенье – и всё никак не может понять: что же он сделал не так? Скорее бы, скорее бы увидеть маму, думает он и мысленно благодарит доброго художника, который вызвался помочь ему и его маме.
Спасибо, – повторяет он про себя, не подозревая о том, что автомобиль, в котором он сейчас едет по проспекту, – уже не автомобиль, а ладья Харона, а проспект – уже не проспект, а Стикс, а на том берегу его ждёт не мама, но самый что ни на есть ад с чудовищными пытками, невыносимой болью и отсутствием всякой надежды на избавление.
Ох уж эти мне художники… С их тонкой душевной организацией и лагерями смерти, если что-то пошло не так.
Но что такое дурацкие, надуманные подозрения, тем более беспочвенные обвинения в домогательствах, – думалось Норе из воспоминания, – перед чудовищной опасностью упустить шедевр, допустить распад красоты, исчезновение в небытии произведения искусства, созданного самой Вселенной?
Как та волна, что навсегда стёрла из сокровищницы человечества картину Пикассо, которую именитый творец однажды ради забавы «написал» на пляжном песке. Разве я могу себе позволить превратиться в эту волну?
Ведь и теперь то же: единственным, кто мог спасти от распада шедевр, созданный самой матерью-природой, был, разумеется, Олег. И всё, что от него требовалось, – преодолеть застенчивость, стыд и страх обвинений в посягательстве на честь и достоинство самой «натурщицы», которая в этот момент даже не подозревала о великой роли, которую отвело ей мироздание. О великой чести, оказанной ей эстетическим откровением – матерью этики.
Мироздание, конечно же, явило свою бессмертную волю и великое милосердие, разместив Нору в этой точке пляжа – под этим солнцем, под облаками, создающими подходящие тени, под этим ветром, едва колышущим её золотые волосы, – в сердце этого знойного полдня, в котором само время остановилось.
И появился он – художник, совершенно случайно или же вовсе не случайно, но, напротив, влекомый и направляемый могучим перстом самой Судьбы, будто реинкарнация великого Тулуз-Лотрека или невероятного Поля Гогена…
А она – будто Дориан Грей… Нет, не то.
Короче говоря, Нора попалась – точно так же, как попался на восемь лимонов мужик из «бесплатной городской консультации населения»...
– Беги, дура проклятая! – орала нынешняя Нора Норе из воспоминания. – Врежь ему по роже и беги! Достань ключи из сумочки, положи в ладонь и врежь этой самой ладонью с ключами – так, чтобы ключи разворотили своими острыми краями его рептилоидные глазницы, – врежь, прямо по его поганой роже и беги!
– Умолкни! – шикнуло воспоминание. – Умолкни и смотри!
И Нора, чувствуя болезненное, угнетающее и ужасающее возбуждение, от которого невозможно сбежать, становилась как будто меньше, беспомощнее, слабее. Она съёживалась, повинуясь голосу воспоминания, умолкала. Листва её сворачивалась и желтела, а ствол становился мягким и податливым.
И воспоминание обрело всю полноту власти над нынешней, несчастной семнадцатилетней девочкой, мечтающей о красивой свадьбе и гениальных детишках, которых она обязательно научит тому, что уже знает сама, но чего, конечно же, не знают и чему не научили её родители.
На мариупольском пляже уже растянулась заря. Измазанное кровью небо – дёшево и по́шло, как нищая музыка в радиоприёмниках таксистов – создавало атмосферу привычности, «знакомости», а оттого ложного доверия и симуляционного уюта.
Олег предложил Норе подвезти её до дома. Она согласилась.
Сноски:
[1] Лёха Никонов
© Aldebaran 2025.
© Новиков Артур.