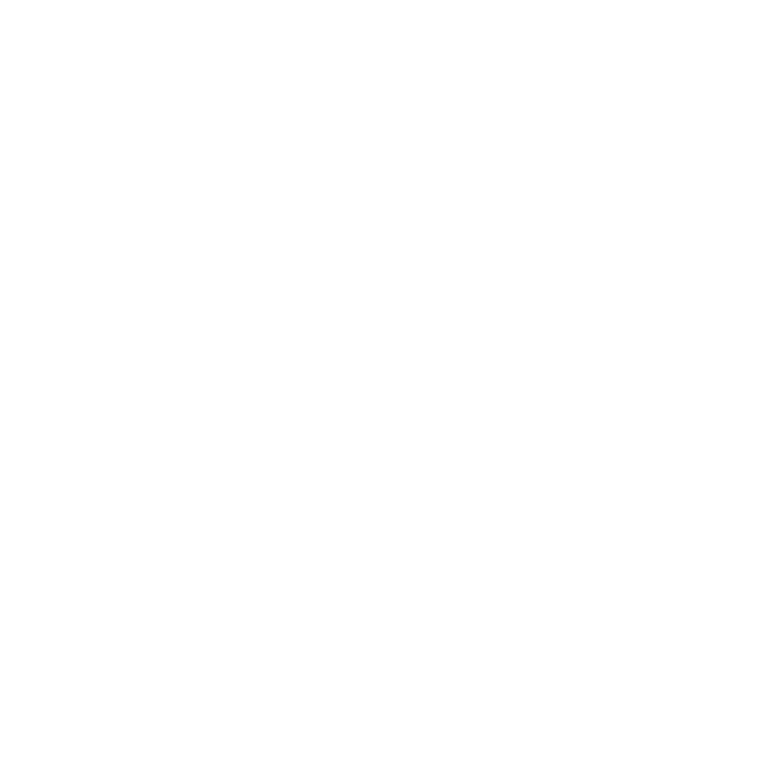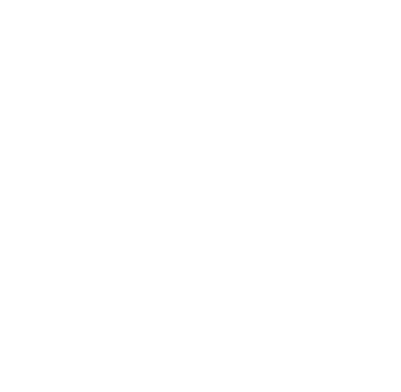Шумерские сумерки
Артур Новиков
О поэзии Марины Марьяшиной
Шумерские сумерки
«И холодно. И хочется домой,
А дома нет, но есть вода и камень…»
Разговор о поэзии Марины Марьяшиной простым не выйдет, и все-таки он необходим. Сложно найти другого поэта, который бы так выразительно описал опыт пропускания себя как духовной субстанции сквозь реалии сегодняшнего дня, – опыт, который находится за пределами заведенного житейского уклада.
Получивший поэтическую оболочку с легкой руки Марины этот опыт тяжелый, океанический, приходящий в качестве глобального превосходства сверху. Во́ды его памяти глубоки, мрак – интенсивен, глаза – забиты снегом, но, тем не менее, от этих глаз не ускользает «облако», которое, «как белая рубаха, над головами тихо проплывет».
Для чего же читать поэзию, чья тяжесть сродни камню? Как минимум для того, чтобы воспитать в себе способность к преодолению, натренировать навык не уходить на дно под весом этого камня. Стихи Марины Марьяшиной – это материя, укрепляющая дух тех немногих, которым достало мужества не отвести взгляд. Ибо достигший в стихотворениях Марины по-настоящему впечатляющих высот русский язык запечатлел и отрефлексировал обширный экзистенциальный опыт автора с той степенью осознанности и мастерства, до которой в русской литературе прежде поднимались лишь единицы.
Пожалуй, ближайший поэт, который бы сдюжил потягаться с Мариной Марьяшиной – это, разумеется, Марина Ивановна Цветаева: та же первородная, еще не пережившая явную дифференциацию хтонь, стихия сырой жизни, нефть, Афина.
Поскольку статья не академическая, мы позволим себе воспользоваться методологией, «собранной на коленке». Обозначим несколько векторов и, перемещаясь по ним, попытаемся произвести смысловую редукцию к некоему осязаемому целому. Что же это за векторы?
Первый – античность, второй – барокко, третий – библейская символика. А также просто поищем архетипы, «формульные» строки, удивляющие катрены и стихотворения, несущие в себе аксиоматические утверждения и прочие «магические» штучки.
Почему нами выбраны именно эти паттерны в качестве методологии? Признаюсь, такой выбор обоснован более моим частным желанием увлеченного темой писателя, нежели долгом и мастерством объективного критика. Последний идет от анализируемого текста к тому, что в тексте имеется и что должно быть раскрыто и описано, в то время как первый, то есть писатель от критики, идет от своего частного желания раскрыть только то, что именно он увидел в тексте и только так, как именно он хочет, чтобы это увидели другие. Разумеется, такой подход отстоит от объективного толкования далеко и не может вобрать в себя «все» содержимое анализируемых текстов.
Античность, барокко и библейская символика – лишь частности в текстах Марины Марьяшиной, за которые автор данной статьи зацепился ввиду собственных эстетических и этических прихотей.
Часть 1. Античность
Представьте полис времен Платона: по улицам снуют люди в тогах, в мраморных посудинах тут и там разложен просвечивающийся насквозь алый виноград. Палящее солнце отбрасывает длинные тени колоннад и арок. Уличные торговцы громко предлагают свои товары, в воздухе смешиваются ароматы оливок, сыра и меда. На площади в центре города, окруженной статуями богов и героев, философы ведут горячие дискуссии о природе добродетели и справедливости. Вокруг слышатся звонкие голоса детей, играющих в игры на узких улочках, и смех женщин, занятых стиркой у фонтана.
Вдоль дорог раскинулись таверны, откуда доносится шум, звон и стук чаш, наполненных вином. Мраморные вершины зданий, отражая солнечный свет, возвышаются над городскими каменными стенами.
Тихие улочки полиса бегут к Акрополю, где на вершине холма вознесся к небесам Парфенон. В тени его колонн прохожие останавливаются, чтобы отдохнуть и поразмышлять об эйдосах, энтелехиях и прочих высоких материях.
Но вдруг вы слышите голос, накрывающий и пронизывающий все это действо. Голос Афины Паллады:
«…Какое дело мне до городских забав,
До маковых плюшек, ярмарок с чучелами:
Устав издеваться, лыбиться начинали,
Как идол стою, из пепла себя собрав.
Раз дышится легче – уроков не извлекла,
И панцирь не тверд, и сердце мое не тише,
Привычный маршрут построен – в кружок иди же.
И если помашет кто-нибудь из окна –
Я мимо пройду, как все, опустев на треть,
Туда, где земля, расчерчена на полоски,
Рождает высотку, дерево, храм Покровский,
И небо такое, что больно в него смотреть».
Отрезвляет, не правда ли? Мгновенно приходит понимание, что что-то в нашем античном парадизе, с его мрамором, сыром и женщинами у фонтанов, – что-то не так, прогнило что-то в Датском королевстве. Но пока это только ощущение – смутное, неудобное, отталкивающее. «Отведи взгляд, избавься от него. Ведь все не так уж и плохо…», – тут же говорит нам какой-то голос. «Нет», – отвечаем мы, – «мы попробуем разобраться».
Во-первых, попытаемся понять, кто говорит? Чей голос так тяжек для нашего слуха? Пожалуй, самым выразительным обертоном в тембре говорящего является намек на собственную попытку возродиться из пепла и заново обрести смысл. Говорящий ощущает себя «идолом из пепла», к тому же считающим собственное возрождение неискренним, ибо, воссоздав себя из пепла, говорящий «опустел на треть». Более того, это означает, что говорящий уже где-то в прошлом достиг состояния «пепла», был уничтожен. Так в наш античный парадиз проникает знание о возможности смерти, распада, превращения в пепел. Но в то же время открывается знание и о возможности из пепла восстать. Хотя без потери «трети» себя осуществить это вряд ли получится.
Вместе с тем, когда в произведении возникает контекст смерти-возрождения, стоит вспомнить учение Платона о душе. Согласно ему, душа существует независимо от тела и не разрушается с его гибелью. Она проходит через череду воплощений, перерождений и очищений, сохраняя свою сущность. Так, в диалоге «Федон» Платон приводит аргументы в пользу бессмертия души. Он утверждает, что душа является источником жизни, а то, что является источником жизни, не может уничтожиться. То есть душа, будучи носителем жизни, не подвержена смерти.
Еще одной важной идеей Платона является теория воспоминания (анамнезис). Она гласит, что познание является воспоминанием того, что душа уже знала в мире идей до своего воплощения в теле, чем подтверждается существование души до рождения и ее бессмертие.
Так же душа в платоновской философии делится на три части: разумную (логос), яростную (тимос) и вожделеющую (эпитумия). Разумная часть души наиболее близка к миру идей и бессмертна, в то время как другие части связаны с телом и могут подвергаться изменениям и страданиям. И тогда интерпретация «идола, собравшего себя из пепла» в связке с выражением «как все, опустев на треть» начинает играть новыми красками: не пытается ли автор сказать, что и мы, «как все», в результате повторяющегося процесса «смерти-возрождения» тоже утратили треть души, но до сих пор не осознали этого. Как не осознали и сам цикл «смерти-возрождения», в котором пребывает каждая душа, и каковой для всякого индивидуален.
Уж ни голос ли Кассандры пытается пробиться к нашему сознанию? Голос той самой знаменитой троянской пророчицы, одаренной способностью предсказывать будущее, но проклятой обезоруживающим неверием окружающих. Ведь мы помним, что предупреждения о грядущих бедствиях, таких как падение Трои, так и остались неуслышанными по причине легкомыслия, безразличия и банального невежества. Голос Кассандры – это голос истины, отвергаемой обществом, предостережение, которое игнорируется. Вместе с тем, Кассандра фигура еще и трагичная: зная правду, Кассандра познала и бессилие, невозможность изменить судьбу, так как ее слова порождали лишь снисходительные улыбки окружающих.
Менее выделяющаяся деталь, но также весьма красноречиво подчеркивающая все вышесказанное: говорящий, то есть «лирический герой» анализируемого стихотворения, утомлен поверхностностью, жестокостью и притворностью окружающих: «Устав издеваться, лыбиться начинали», – говорит Кассандра. Эта прямая дорога и привела говорящего к отчужденности и безразличию в отношении радостей и развлечений привычной городской среды: «Какое дело мне до городских забав», если падение Трои уже не за горами, добавим мы уже от себя.
Теперь о пространстве и времени, то есть о хронотопе. Описание города, расчерченного на полоски, рождающего высотки, деревья и храмы, символизирует структурированность и упорядоченность (античная геометрия), которые не приносят удовлетворения говорящему: «Привычный маршрут построен – в кружок иди же».
Вот и все пространство – круг. При том даже храмы внутри круга, а не за его чертой. Но не является ли этот круг не геометрией, а циклом, находящимся за пределами земной жизни? Не говорит ли автор про «кружок» более значимый, о мытарствах духа в колесе «смерти-возрождения»?
А время? Его вовсе как будто и нет. Оно эквивалентно и одновременно как нашему античному «парадизу», в сокрытом от взгляда основании которого лежит, по Ницше (см.: «Греческое государство»), рабство, рождаемое от нужды, – так оно, время, эквивалентно и одновременно и нашему «малому» московскому времени. В основание которого, следует заметить, точно так же положено рабство, рождаемое от нужды. И точно так же – сокрытое от взгляда «маковыми плюшками» и «ярмарками с чучелами». Перед нами, казалось бы, временной разрыв в несколько тысячелетий, но основание – не пошатнулось. Веселые истории от Маркса – это и есть надстройка. Базис намного прозаичнее. И, разумеется, только голос, которому доступно «большое» время, способен произнести правду, не вызвав при этом шквала снисходительных улыбок и похлопываний по плечу. Но напротив, обернувшись чем-то едва выносимым. Как показало время, голос Кассандры – бессилен, а это означает, что должна заговорить Афина.
Отсюда «И небо такое, что больно в него смотреть», ибо «за ним» находится не божественное милосердие и благодать, но начало очередного круга, «вечное возвращение» в «юдоль скорбей».
Так кто же с нами говорит? Я бы ответил так: дух большого времени. Боль, накопленная тысячелетиями в кругах больших и малых. Тысячи раз превращенная в пепел и восставшая из него, но не «извлёкшая уроков», «раз дышится легче» и «панцирь не тверд». Пусть же имя этому духу будет – Паллада.
Часть 2. Барокко
Несколько слов о том, что такое есть барокко в литературе.
«Огонь и колесо, смола, щипцы и дыба,
Веревка, крюк, петля, топор и эшафот,
В кипящем олове обуглившийся рот, –
С тем, что ты выдержал, сравниться не могли бы».
Приведенные выше строки Андреаса Грифиуса, немецкого поэта и драматурга, творившего во времена молодости барокко, вполне себе отображают дух этого стиля в литературе: орнамент, гиперболизация, массивность, повальная метафоризация, противопоставление, смерть, муки, отвратительное, но с черным юморком (в кипящем олове обуглившийся рот) и т.д. Иначе говоря, избыток, но при этом избыток, лишенный оптимизма и веры в светлое будущее. И не последнюю роль в таком умонастроении сыграли несколько вспышек чумы, включая «Черную смерть», а также Итальянскую чуму 1629-1631 годов и Лондонскую чуму 1665-1666 годов.
Во многом благодаря чуме и бесконечным войнам, барокко – это мир богооставленный, и если бы был у них свой Ницше, то он смело мог бы произнести знаменитое «бог мертв, мы убили его».
Чтобы удостовериться в подобных умонастроениях барочных литераторов можно почитать, например, «Священные сонеты» Джона Донна. В частности, мы посмотрим на «Священный сонет XIV» в переводе Елены Фельдман (полный текст с оригиналом: https://stihi.ru/2014/08/19/10125 ):
«Но любовь моя, вечно живая, взывает из мрака:
Я с врагом Твоим был обручен по мирской слепоте –
Разорви эту цепь, не отвергни меня в темноте,
Возврати мне легчайшие узы небесного брака;
Ибо только оковы Твои мне свободу даруют,
Только взятие силой былую невинность врачует».
Лирический герой взывает к «Единому Господу» и просит «Его оков», ибо, как не сложно догадаться, он их лишен, но пожив без них, понял – только они, оковы «Единого Господа», «даруют свободу». В то время как в «мирской слепоте» лирический герой Джона Донна «с врагом Твоим обручен».
Не правда ли, за такое признание святая инквизиция во времена оны наверняка запалила бы именем Господа серьезный изгоняющий Кесперлина костер. Но не в эпоху барокко. Барокко – это богооставленность, разорванность, отчаяние, утрата смысла и веры, сопровождаемые буйством и цветением – в качестве компенсации – земных форм и материй; «жемчужина неправильной формы», – как неоднократно называл барокко профессор Евгений Викторович Жаринов. Больно само ядро этой жемчужины, потому форма ее свершившейся объективации – неправильна, болезненна. И, тем не менее, она все еще жемчужина, то есть своего рода эстетствующая материя.
Возникает закономерный вопрос: чем же таким отличается наше время от время барочного? Мы даже своеобразную чуму в виде «ковида» пережили (пережили ли?), а сколько войн, которым конца и края не видать, но видать, скорее, «ядерный полог небес». Да и Ницше уже сказал слово. И постмодернизм внес в современную данность собственное «фи»: симуляционное (богооставленное), гиперреальное (супер-реальное, гиперболизированное), разорванное, фрагментарное, полное больной иронии (знаменитая ирония Д.Ф. Уоллеса) и т.д.
Кстати, говоря про иронию постмодернизма, вспомним Бокаччо: «Ибо, когда трупы стали укладывать друг на друга, как груды сыра в блюде лазаньи, это явление было столь ужасным, что одно лишь зрелище приводило в отчаяние». Вот где поистине черная ирония: трупы – как груды сыра в блюде лазаньи.
Классное могло бы выйти исследование в русле компаративного анализа «барокко» и «постмодернизма». Ибо общего в них намного больше, чем сингулярного. И, кроме того, то общее, которое имеется, в наши дни уже обросло новыми оболочками: диджитализацией, сериализацией, полезной работой от будущего модуса времени и т.д. и т.п.
Но вернемся к поэзии, а точнее, к творчеству Марины Марьяшиной, но теперь в контексте барокко.
Итак, читаем, держа в голове то, что было сказано выше:
«Сказали это симуляция
такой большой эксперимент
зажмуриться и рассмеяться бы
мол круче сей историй нет
закрой глаза смахни с предплечия
не то фронтальный свет больной
не то ментальные увечия
да тени умерших давно ль
они как ты но все ж отчетливей
тебя на деле раз мертвы
пока ты мыслям здесь отчеты вёл
неотличимы от листвы
они прошли по этим улицам
прозрачными чтецами дум
постковидарным тихим ужасом
и продолженьем войнам двум
и самого себя бояться бы
живя в две тысячи седьмом
крутая все же симуляция
придумывали всем селом»
Вот нам и чудный барочный – точнее, необарочный – образчик прямо на блюде:
– бренность и мимолетность жизни, неизбежность смерти как одна из основных барочных тем: «да тени умерших давно ль они как ты но все ж отчетливей тебя на деле раз мертвы». Они «отчетливей тебя», поскольку в нашей симуляции «реальнее» то, что мертво. Или, может быть, они реальнее потому, что, умерев, вырвались из симуляции, как бы «ожили» где-то там, по ту сторону. А мы, наоборот, мертвы? Вот уж где действительно бренность бытия, по-настоящему «высокое барокко»;
– симуляция – богооставленность: бог, демиург, выдумавший такой мир – это «все село», то есть люди, а еще точнее – колхозники, но никак не высший разум;
– драматизм и контрасты как важный элемент поэтики барокко: «не то фронтальный свет больной не то ментальные увечия»;
– метафорическая вязь – массивный фронтон: «сказали это симуляция такой большой эксперимент», а также второй и третий катрены;
– контрасты на тематическом уровне: мертвые – живые, прошлое – настоящее, реальное – потустороннее;
– черный юмор – ирония: «крутая все же симуляция придумывали всем селом»;
– постапокалиптические и философские размышления и настроения, в которые нередко впадает барочное мировоззрение на фоне нескончаемых кровопролитий и эпидемий черной смерти: «постковидарным тихим ужасом и продолженьем войнам двум».
Соответствует ли данное стихотворение духу барокко? Думаю, можно смело утверждать, что да. Вопрос в другом: мир барочный – мир отнюдь не веселый и не позитивный, как мы уже успели понять. А вышеприведенное стихотворение Марины вряд ли можно назвать чем-то выдуманным, преувеличенным или не имеющим связи с действительностью. Поскольку именно дух времени в нем и отрефлексирован: основные приметы, события, настроения, тревоги. И лицо у нашего «духа» вполне себе барочное, а само стихотворение – вполне себе «жемчужина неправильной формы». Так вот, вопрос в том, как нам теперь из этого выбираться. И ответ мы поищем в следующей части.
Часть 3. Библейская символика
Вместо предисловия. Невозможно, немыслимо из поэтических текстов Марины Марьяшиной выбирать отдельные стихотворения, катрены, строки. Ибо хочется показать «еще», и «это», и «то», и «вот это»… Корпусы ее текстов все-таки нужно читать по порядку, по принципу «первый вошел – первый вышел». Но теперь мы ограничены временем и пространством данной статьи, а также тем, что при отборе текстов для анализа нужно выбирать не самые «клевые», а самые подходящие. Увы… Но мы постараемся наверстать данное упущение в последнем разделе нашей статьи. А пока вернемся к библейской символике. Но пойдем мы не от света, как многие могли бы предположить, а от тьмы:
«последних святых выносили, замотанных в тряпки,
последние свечи гасили за ржавой оградой,
и мысли друг с другом играли в последние прятки,
и шел человек по осенней земле безотрадной,
и шел человек. И за ним расцветали сирени,
старушечий запах подъездов в полуденной прели
являлся вдруг свежестью лилий, и девы Сирены
печальные синие песни над городом пели
он светел всегда. Из подъезда выходит, как фраер,
и тело несет, как орудие боли внезапной,
и офисным клеркам с улыбкой поет он, что в рай им
от финки дорога. И пьет он, не думая, залпом.
Он выйдет, как ножик, с улыбкой светлее лампадки,
и век наш пройдёт, будто вейповский пар, сквозь форсунки.
При шухере этом деревья складут на лопатки
усталые листья. И, голые, встанут по струнке».
Двойственно, правда? Данное стихотворение – отличное для читателя упражнение на осознанность, на логику, на сообразительность, на испытание себя же искушением. Хотя персонаж стихотворения прорисован довольно четко, можем ли мы сходу уверенно ответить на вопрос, чей образ перед нами? Свет он несет или тьму? Когда мы встретим его в реальной жизни, последуем ли мы за ним? Или, может быть, он – это «мы», каждый из нас?
Попробуем прочитать это стихотворение через последнюю книгу «Нового Завета», более известную под названиями «Откровение Иоанна Богослова» или «Апокалипсис». Мы не можем утверждать, что такой ход единственно верен и даст нам правильные ответы на поставленные выше вопросы. Это стихотворение можно также прочесть и через, например, пантеизм, и тогда ответы, как и сами вопросы, будут иными. Не исключено, что близкими к противоположным. Но в данной статье мы ограничим себя только библейской символикой, ибо такова наша методология.
Итак, «Откровение Иоанна Богослова» повествует о последних временах, о рождении на Земле антихриста, о втором пришествии Христа, о конце света, о Страшном суде. Наиболее известные образы «Апокалипсиса»: дракон или зверь, Жена, облаченная в солнце, всадники апокалипсиса. Также именно в «Апокалипсисе» названо «Число зверя», а именно: «666». События накануне пришествия Христа сопровождаются катаклизмами и чудесами, появляются лжепророки, сатана обольщает народы земли, Гога и Магога и собирает их на брань.
Первое четверостишие:
«последних святых выносили, замотанных в тряпки,
последние свечи гасили за ржавой оградой,
и мысли друг с другом играли в последние прятки,
и шел человек по осенней земле безотрадной»
«Последних святых выносили»: это может символизировать мучеников последних времен, тех, кто оставался верен Богу до конца. Их смерть и погребение отмечают завершение эры святости.
«Последние свечи гасили»: может символизировать конец света, угасание духовного света и начало тьмы.
«Последние прятки»: может быть метафорой последних дней, когда все тайное становится явным.
«Осенняя земля безотрадная»: земля находится в состоянии упадка и смерти, характерного для конца времен.
Второе четверостишие:
«и шел человек. И за ним расцветали сирени,
старушечий запах подъездов в полуденной прели
являлся вдруг свежестью лилий, и девы Сирены
печальные синие песни над городом пели»
«Расцветали сирени»: может символизировать надежду на новое начало, вероятно, после Апокалипсиса. Однако, если вспомнить Мефистофеля из «Фауста» Гете, то не покажется ли нам странным, что там дьявол зачастую выступает как символ природных сил и инстинктов. Или «природа» в «Демоне» Лермонтова: «я бич рабов моих земных, я царь познанья и свободы, я враг небес, я зло природы, и, видишь, – я у ног твоих!». Или, к примеру, «природа» у Томаса Манна: «Приспособляемость, мимикрия – тебе же такие вещи знакомы. Маскарадное фиглярство матери-природы, у которой всегда высунут на сторону кончик языка», – говорит о себе дьявол Адриану Леверкюну в «Докторе Фаустусе».
«Старушечий запах и свежесть лилий»: контрасты старого и нового, смерти и возрождения, но вместе с тем, не есть ли это очередная уловка, иллюзия, пыль в глаза, призванная сокрыть собой истинную природу персонажа.
«Девы Сирены»: в мифологии сирены манят и обольщают, что может символизировать искушения последних времен.
«Печальные синие песни»: грустные песни могут символизировать горе и страдания конца света. Примечательно, что песни «синие», то есть от западного «blue», а не от нашей тоски «зеленой». Впрочем, не исключено, что автор, говоря о сиренах, поющих синие песни, пытается вызвать в нашем подсознании ассоциации с проблесковыми маяками полиции, скорой или других экстренных служб.
Третье четверостишие:
«он светел всегда. Из подъезда выходит, как фраер,
и тело несет, как орудие боли внезапной,
и офисным клеркам с улыбкой поет он, что в рай им
от финки дорога. И пьет он, не думая, залпом».
«Светел всегда»: двойственность – мы уже понимаем, что персонаж может представлять ложного пророка или антихриста, того, кто являет ложный свет, мимикрирует под святость. С другой стороны, речь может идти о «свете» иного происхождения, и автор пытается сказать, что как часть творца любое существо на этой земле, точнее даже не как часть, а как составляющая, светла всегда, независимо от внешних наслоений.
«Орудие боли внезапной»: двойственность – может символизировать насилие и страдания, которые несет этот персонаж. Или же может означать, что тело, телесность, «плотность», то есть человек сам по себе – есть первопричина собственных страданий, «боли внезапной».
«Финкой дорога в рай»: двойственность – ложное обещание спасения через насилие, что характерно для обманщиков последнего времени. С другой стороны, «убиенных щадят, отпевают, и балуют раем».
«Пьет залпом»: двойственность – безрассудство и гедонизм, характерные для тех, кого «Страшный суд» – пустые слова. Либо же это снова просто «мы», давно ко всему «безжалостно привыкшие».
Четвертое четверостишие:
«Он выйдет, как ножик, с улыбкой светлее лампадки,
и век наш пройдёт, будто вейповский пар, сквозь форсунки.
При шухере этом деревья складут на лопатки
усталые листья. И, голые, встанут по струнке».
«Выйдет, как ножик»: двойственность –персонаж готов к насилию и обману. Либо персонаж, что называется, «как денди лондонский одет».
«Улыбка светлее лампадки»: двойственность – ложный свет, который маскирует истинную природу персонажа. Либо ее отсутствие.
«Век наш пройдёт, будто вейповский пар»: двойственность – мимолетность человеческой жизни и цивилизации. Либо Лермонтовское: «Толпой угрюмою и скоро позабытой над миром мы пройдем без шума и следа…»
«Усталые листья, голые деревья»: символы конца времен, когда природа и человечество изнемогают от страданий.
Думаю, не станет преувеличением утверждение, что данное стихотворение в контексте «Откровения» раскрывается как повествование о последних днях, когда святые страдают и умирают, духовный свет угасает, и появляются ложные пророки, приносящие страдания и обман. И что, с очень высокой степенью вероятности, именно антихриста или ложного пророка представляет собой персонаж, который обольщает людей, обещая ложное спасение через насилие и обман. При этом сам он всегда светел, за ним следуют запахи лилий, и девы поют при нем песни. В то время как природа и человечество изнемогают в этих последних днях, ожидая окончательного суда и возрождения. Таков ли Спаситель?
Но если все же несколько отстраниться от «Откровения», то двойственность, особенно выразительно проявившаяся в двух последних катренах, укажет на нас, опишет нашу априорную светлую природу, являющуюся продолжением Творца, но в результате напластования внешних слоев ставшую чем-то неопределенным, амбивалентным.
Пожалуй, ниже мы приведем некоторые черты Христа из «Откровения», и, учитывая три интерпретации персонажа анализируемого стихотворения – антихрист, лжепророк, «мы» – выводы пусть каждый читатель сделает для себя сам.
Первая глава «Откровения» (Откровение 1:12-18): это первое видение Иоанна, в котором он описывает Христа среди семи золотых светильников:
«Голова Его и волосы белы, как белая волна, как снег»;
«Очи Его, как пламень огненный»;
«Ноги Его подобны халколивану, как раскаленные в печи»;
«Голос Его, как шум вод многих»;
«Он держал в деснице Своей семь звезд»;
«Из уст Его выходил острый с обеих сторон меч»;
«Лице Его, как солнце, сияющее в силе своей».
Пятая глава «Откровения» (Откровение 5:6-10): в этом видении Христос представлен как Агнец Божий:
«Агнец как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей».
Девятнадцатая глава «Откровения» (Откровение 19:11-16): здесь Христос описан как всепобеждающий Царь царей и Господь господствующих:
«Конь белый, и Сидящий на нем называется Верный и Истинный»;
«Очи у Него, как пламень огненный»;
«На голове Его много диадим»;
«Он был облечен в одежду, обагренную кровью»;
«Имя Ему: Слово Божие»;
«Из уст же Его исходит острый меч»;
«На одежде и на бедре Его написано имя: Царь царей и Господь господствующих».
Итак, настало время вернуться к вопросу, который мы оставили без ответа в конце предыдущей части нашей статьи: вопрос в том, как нам теперь из этого – из барокко – выбираться. Ибо здесь обещали мы на него ответить. Что ж, будем же держать данное слово.
Для начала, вспомним, что даже на фоне самых мрачных пророчеств – например (Откровение 13: 7-9): «И дано было ему вести войну со святыми и победить их; и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Кто имеет ухо, да слышит», – даже на фоне таких пророчеств Апокалипсис в «Откровении» Иоанна Богослова заканчивается триумфом добра над злом и установлением Нового Иерусалима.
Но давайте спросим, что на этот счет думает сама Марина?
Зацветает черёмуха, синь обнимает сирень,
и звенит, и дробится на воздухе солнце проспектов,
и в лесу городском, одуревшем от птичьих сирен,
дни становятся легче. Вольнее и шаг, и разбег их.
И губами листвы трепеща на весеннем ветру,
с человеком, с пылинкой, с росинкой и с божьей коровкой
говорит человек, что однажды сказал «не умру,
стану книгой из книг, наша встреча не будет короткой».
Он идёт по воде – подо льдом отмерзают мальки,
он земли не коснулся, но та выпускает побеги.
Мир болит в нем самом, и его наложеньем руки
жаль, уже не спасти, и свидание будет в побеге.
Он пришёл не карать за грехи, а спросить «как дела?»
всех поймет и простит. За метанья, за трёп и за трепет.
И закат над столицей, багрянцем омыв купола,
обратится вином, и до сердца дойдёт, и согреет.
Стоит ли комментировать данный текст? Пожалуй, мы обозначим лишь несамоочевидные моменты, которые, как может показаться, вступают в противоречие с предыдущим стихотворением.
Например, здесь – «Он идёт по воде – подо льдом отмерзают мальки, он земли не коснулся, но та выпускает побеги» – может показаться, что мы имеем дело с тем же символом «природных сил и инстинктов», о котором говорили выше в контексте антихриста и лжепророков. Но разница в том, что в данном случае движение жизни направленно от пророка к природе, там, где он проходит – мир воскресает, происходит возрождение природы. Он – дарует жизнь, а не мимикрирует под дарующего, он не использует и не повелевает природными силами. Пожалуй, здесь мы и остановим наш анализ и не станем полностью лишать читателя удовольствия поразмыслить над этим стихотворением «в тишине». Имеющий ухо да слышит…
И напоследок: кто же написал эти стихотворения? Ведь мы даже близко не коснулись их технической составляющей. Формальная сторона вопроса нас вообще не интересовала. Позволим же себе счесть это самым верным признаком мастерства автора, сумевшего заставить нас забыть о форме на время чтения. Но справедливости ради следует сказать, что техника формального мастерства Марины Марьяшной – мягко говоря, удивительна. Если от читателя последует запрос – мы непременно посвятим этой теме отдельную статью.
Часть 4. Цитаты, формульные строки, стихотворения
Античность. Гнев Паллады
***
«А потом, как зажил с одной, с другой,
С ними, голосящими о тряпье –
Обратилось слово твое трухой,
Заживо сгорело в печной трубе»
***
«как слушая арфу эолову
ты сделался строг и красив,
пронзенный лучом в грудь и в голову
плывя над крестами крапив»
***
«Так вот охота – просто поговорить,
Как выживала, не разлепляя рта,
И не пойми за что, и поко́м горит
Этот костёр, как ржавая пустота
Над головой. И мысль, проходя насквозь,
Бледный висок дырявяща, как сверло,
Тонко визжит и гнет черепную кость.
Сердце не бьётся. Холодно и светло».
***
«Исчезнет всё, что пело и боролось,
Сияло и рвалось,
Отчаливая на воздушный Родос,
На остров роз.
Исчезнет всё. И в небе монохромном
Чертя петлю,
Увижу ль как, застигнутые громом,
Бегут к белью
Какие-то иссохшие старухи,
Тазы таща?
Кипит работа. Деды пьют со скуки,
И ждут дождя.
И думают, как лихо мир сдавали,
И бред иной,
С какого дня пошло существованье,
И кто виной
За морок, разносимый по нейронам,
За дней отлив,
Что смрадным духом просмолит, нутро нам
Испепелив?..
Увижу ль город, в поле, словно выкрест –
По купыри…
О бирюзе, что кости наши выест,
Не говори».
***
«Квадратные площади смоет,
Ландшафта заставку, и нас,
Палимых полуденным зноем,
Целующих иконостас.
Обнять бы кого посильнее,
Пока не заплачет раввин,
По лицам, подсветки синее,
И пиксельным рожам кривым».
***
«…Июньский закат медов
И вязок, что налегке нам
В подземную падать мглу
К наряженным манекенам,
Размазанным по стеклу».
Барокко
***
«Только пух, трава, заброшек линии
Стёклами сверкают, будто новодел.
Знаешь, если жить, то белой лилией
Белой лилией качаться на воде».
***
«Говори же с вещами на языке простом:
Рассыпается прахом тронутое перстом,
Если ты нас от братской свары спасти не мог,
Окати ледяной бедой с головы до ног»
***
«Нет на земле ни любви твоей, ни вездесущей
Правды в природе, одна бесовщина вокруг, беспредел да ворьё.
Иже если, да святится… И хлеб наш насущный
Ветром в колосьях прославлено имя твоё».
***
«всё заново. все повторяется.
ночь улица отблеск свечи
мы умерли вот неурядица
так пусто что лучше смолчи…
…умрешь переписывай заново
а скажут что ты и напел
кликуш проводя в белых саванах
под черные своды капелл»
***
«…Присядь на бугорке, почувствовав, как веет
Сибирским костерком подпаленный закат.
Все вроде хорошо. Ни топоры, ни пилы
Не лезут из углов…
…Мы парились в котлах, среди чинуш нервозных,
И воля их была терпимей мошкары.
Струился березняк, приклеенный на воздух,
И электричка шла, седая от жары».
***
«…Это местные боги, наверное, взъелись на нас,
Грозовыми хоругвями туч очертили скворечни.
Нет ни рая, ни ада, слыхали? Всевидит Глонасс,
Зависая над хаосом, путь исчисляя скорейший
В геометрию мира, где раб муравей муравью,
Где сшибаются трутни за сладость кровавого мёда.
Покрути у виска, покажи, как стремится к нулю
КПД возмущенья под цепким зрачком огнемёта»
Библейская символика
***
«И камень Адаму казался сидящей девой,
Плечами широк, и жилист, и тонконос,
Он вырвал в тоске ребро себе, флейту сделал,
Чтоб слезы излить, как Сирин и Алконост».
***
«…Лазарь, Лазарь, выйди вон,
Тишиной лазурь пронзая,
Звал не колокол, не звон,
Просто женщина босая
В темноту вошла, как в круг,
Роком, мороком, заботой.
Страшно, говоришь? А вдруг
В пеленах своих замотан,
Ты лежал бы вниз лицом
И метался по пещере,
Чужд всему и невесом,
Без надежды на прощенье?»
***
«я выбираю тридцать монет и правду
если не я то кто же тебя венчает
кто назовёт царём опояшет светом
разве за это можно казаться жалким
разве целуют в лоб не деля страданье»
Архетип
***
«Нас поймет пакет и гнилой банан.
Больше никто и не.
Ибо мы покинули дантов круг
Прибыли и затрат.
Мы трава. Сплетение ног и рук.
Девочка и солдат».
***
«Зачах кощей на золотой игле,
пришла зима и сказка в ней зависла»
***
«И казалось, что небо, прибитое на гвоздях,
Растрепалось на нитки, когда я ушла из дома.
И шумело вокруг, и в душу струил сквозняк,
Выдувая искон и сам становясь исконом».
***
«До весны залегло под лёд, перестало жечь
Бледнолицее солнце гравия и слюды,
По утрам, сквозь бычый пузырь золотится желчь,
Выжигает площадки, паркинги, детсады».
Музыка
***
«Да о чем я вообще? В черно-белом скрещении линий
Бархат ночи кромсает Феллини сквозь веер павлиний.
Не отсвечивай, сядь в уголок, и прикинься незрячей.
Можно всем торговать, если мы торговали нельзя чем».
***
«Хочешь спасу?
Уедем смотреть ковры.
С Щёлковской ходит автобус до Бухары.
Там золотые луны несут к столу.
Курят насвай и молятся на полу».
***
«Так и день проплывёт огнёвкой по дну пруда,
Без тревог и попыток умственного труда».
Детство
***
«Мне ли верить в проблеск подо льдом,
В хлебный мякиш, в сытое кочевье,
Если беды сносят на потом
На ветру звенящие качели?»
Разное
***
«И равного себе по силе зверя
Зима качает в снежной простыне
И водит месяц когтем по спине…
…Шагами тех блаженных, что вверху
О судаках судачат охмелело,
В пуховиках на рыбьем-то меху
Господь простит их. Зацветет омела.
Придет весна, и сойка затрещит,
И станет жизнь расхлябанней и проще.
И дух истлевший, в бледный саван вшит,
Вздохнет в его тепле, как ветер в роще».
***
«Нужно лишь впахивать понаяристей,
Не поддаваться сплину…
Взвизг электрички во тьме ноябрьской
Страшен, как выстрел в спину».
Часть 5. Кода
Стихотворения из еще невышедшего сборника Марины в разделе «Цитат» мы не рассматривали. Сделано это умышленно, чтобы, как минимум, «не сглазить». Но все же в качестве «коды» для данной статьи мы выбрали практически наугад стихотворение именно из будущего сборника. И оно оказалось шедевром… Поскольку в грядущем сборнике Марины Марьяшиной все тексты примерно того же полета, то мне, как коллеге по цеху, ничего другого не остается, как только с легкий сердцем и чистой совестью назвать Марину гением и, уступив дорогу, помочь пройти по ней как можно дальше.
Уходи, уходи. Только вечер уходит едва,
набегает золой городской, не достав до ядра
голубого пучка, горстки света, зеркальной игры
зажиганья конфорок от вспышки огня, от иглы
Той, что прячет кощей, златоглавый король мертвецов,
Тот, что чахнет над златом страны моей, где ни венцов,
Ни нажитого блага – лишь души поставив на кон,
Полыхают шумерские сумерки в шелесте крон,
Ибо есть возвращенье: истории, встреч и разлук,
Есть витки для судьбы и страны, что, как птица, из рук
Вылетает в окно, и над синим эфиром паря,
возвращает в природу движенье и ветер в поля
Цвета шерсти верблюжьей. Стеклярусом влаги усей
Всех домов корабли, пролетавших над бездною сей,
Ибо чувствует всяк, что проходит по сердцу разлом:
Это старые корни в земле, завязавшись узлом,
Расплетаются, как пред венчаньем девичья коса,
И взыскуют ответа: что делать – от света в глаза
Ежедневно слепящего, рвущего тьму пополам,
Оттого и ползут сквозняки по замшелым полам,
Обдирается краска, шуршат на ветру лепестки,
И вчистую расхищена память: ни соль, ни пески
Не отмоют ее, как червонец кощеева длань,
Потому что не жизнь, а бессонницы бледная рань
Нас встречает среди облетевших паршой пустырей,
И от взгляда в себя – не заметишь, как мир постарел,
И увидишь тогда, сам себя обгоняя в облёт,
Как на грустной земле моей весело солнце встаёт.
© Aldebaran 2024.
© Новиков Артур.
Вместо предисловия. Невозможно, немыслимо из поэтических текстов Марины Марьяшиной выбирать отдельные стихотворения, катрены, строки. Ибо хочется показать «еще», и «это», и «то», и «вот это»… Корпусы ее текстов все-таки нужно читать по порядку, по принципу «первый вошел – первый вышел». Но теперь мы ограничены временем и пространством данной статьи, а также тем, что при отборе текстов для анализа нужно выбирать не самые «клевые», а самые подходящие. Увы… Но мы постараемся наверстать данное упущение в последнем разделе нашей статьи. А пока вернемся к библейской символике. Но пойдем мы не от света, как многие могли бы предположить, а от тьмы:
«последних святых выносили, замотанных в тряпки,
последние свечи гасили за ржавой оградой,
и мысли друг с другом играли в последние прятки,
и шел человек по осенней земле безотрадной,
и шел человек. И за ним расцветали сирени,
старушечий запах подъездов в полуденной прели
являлся вдруг свежестью лилий, и девы Сирены
печальные синие песни над городом пели
он светел всегда. Из подъезда выходит, как фраер,
и тело несет, как орудие боли внезапной,
и офисным клеркам с улыбкой поет он, что в рай им
от финки дорога. И пьет он, не думая, залпом.
Он выйдет, как ножик, с улыбкой светлее лампадки,
и век наш пройдёт, будто вейповский пар, сквозь форсунки.
При шухере этом деревья складут на лопатки
усталые листья. И, голые, встанут по струнке».
Двойственно, правда? Данное стихотворение – отличное для читателя упражнение на осознанность, на логику, на сообразительность, на испытание себя же искушением. Хотя персонаж стихотворения прорисован довольно четко, можем ли мы сходу уверенно ответить на вопрос, чей образ перед нами? Свет он несет или тьму? Когда мы встретим его в реальной жизни, последуем ли мы за ним? Или, может быть, он – это «мы», каждый из нас?
Попробуем прочитать это стихотворение через последнюю книгу «Нового Завета», более известную под названиями «Откровение Иоанна Богослова» или «Апокалипсис». Мы не можем утверждать, что такой ход единственно верен и даст нам правильные ответы на поставленные выше вопросы. Это стихотворение можно также прочесть и через, например, пантеизм, и тогда ответы, как и сами вопросы, будут иными. Не исключено, что близкими к противоположным. Но в данной статье мы ограничим себя только библейской символикой, ибо такова наша методология.
Итак, «Откровение Иоанна Богослова» повествует о последних временах, о рождении на Земле антихриста, о втором пришествии Христа, о конце света, о Страшном суде. Наиболее известные образы «Апокалипсиса»: дракон или зверь, Жена, облаченная в солнце, всадники апокалипсиса. Также именно в «Апокалипсисе» названо «Число зверя», а именно: «666». События накануне пришествия Христа сопровождаются катаклизмами и чудесами, появляются лжепророки, сатана обольщает народы земли, Гога и Магога и собирает их на брань.
Первое четверостишие:
«последних святых выносили, замотанных в тряпки,
последние свечи гасили за ржавой оградой,
и мысли друг с другом играли в последние прятки,
и шел человек по осенней земле безотрадной»
«Последних святых выносили»: это может символизировать мучеников последних времен, тех, кто оставался верен Богу до конца. Их смерть и погребение отмечают завершение эры святости.
«Последние свечи гасили»: может символизировать конец света, угасание духовного света и начало тьмы.
«Последние прятки»: может быть метафорой последних дней, когда все тайное становится явным.
«Осенняя земля безотрадная»: земля находится в состоянии упадка и смерти, характерного для конца времен.
Второе четверостишие:
«и шел человек. И за ним расцветали сирени,
старушечий запах подъездов в полуденной прели
являлся вдруг свежестью лилий, и девы Сирены
печальные синие песни над городом пели»
«Расцветали сирени»: может символизировать надежду на новое начало, вероятно, после Апокалипсиса. Однако, если вспомнить Мефистофеля из «Фауста» Гете, то не покажется ли нам странным, что там дьявол зачастую выступает как символ природных сил и инстинктов. Или «природа» в «Демоне» Лермонтова: «я бич рабов моих земных, я царь познанья и свободы, я враг небес, я зло природы, и, видишь, – я у ног твоих!». Или, к примеру, «природа» у Томаса Манна: «Приспособляемость, мимикрия – тебе же такие вещи знакомы. Маскарадное фиглярство матери-природы, у которой всегда высунут на сторону кончик языка», – говорит о себе дьявол Адриану Леверкюну в «Докторе Фаустусе».
«Старушечий запах и свежесть лилий»: контрасты старого и нового, смерти и возрождения, но вместе с тем, не есть ли это очередная уловка, иллюзия, пыль в глаза, призванная сокрыть собой истинную природу персонажа.
«Девы Сирены»: в мифологии сирены манят и обольщают, что может символизировать искушения последних времен.
«Печальные синие песни»: грустные песни могут символизировать горе и страдания конца света. Примечательно, что песни «синие», то есть от западного «blue», а не от нашей тоски «зеленой». Впрочем, не исключено, что автор, говоря о сиренах, поющих синие песни, пытается вызвать в нашем подсознании ассоциации с проблесковыми маяками полиции, скорой или других экстренных служб.
Третье четверостишие:
«он светел всегда. Из подъезда выходит, как фраер,
и тело несет, как орудие боли внезапной,
и офисным клеркам с улыбкой поет он, что в рай им
от финки дорога. И пьет он, не думая, залпом».
«Светел всегда»: двойственность – мы уже понимаем, что персонаж может представлять ложного пророка или антихриста, того, кто являет ложный свет, мимикрирует под святость. С другой стороны, речь может идти о «свете» иного происхождения, и автор пытается сказать, что как часть творца любое существо на этой земле, точнее даже не как часть, а как составляющая, светла всегда, независимо от внешних наслоений.
«Орудие боли внезапной»: двойственность – может символизировать насилие и страдания, которые несет этот персонаж. Или же может означать, что тело, телесность, «плотность», то есть человек сам по себе – есть первопричина собственных страданий, «боли внезапной».
«Финкой дорога в рай»: двойственность – ложное обещание спасения через насилие, что характерно для обманщиков последнего времени. С другой стороны, «убиенных щадят, отпевают, и балуют раем».
«Пьет залпом»: двойственность – безрассудство и гедонизм, характерные для тех, кого «Страшный суд» – пустые слова. Либо же это снова просто «мы», давно ко всему «безжалостно привыкшие».
Четвертое четверостишие:
«Он выйдет, как ножик, с улыбкой светлее лампадки,
и век наш пройдёт, будто вейповский пар, сквозь форсунки.
При шухере этом деревья складут на лопатки
усталые листья. И, голые, встанут по струнке».
«Выйдет, как ножик»: двойственность –персонаж готов к насилию и обману. Либо персонаж, что называется, «как денди лондонский одет».
«Улыбка светлее лампадки»: двойственность – ложный свет, который маскирует истинную природу персонажа. Либо ее отсутствие.
«Век наш пройдёт, будто вейповский пар»: двойственность – мимолетность человеческой жизни и цивилизации. Либо Лермонтовское: «Толпой угрюмою и скоро позабытой над миром мы пройдем без шума и следа…»
«Усталые листья, голые деревья»: символы конца времен, когда природа и человечество изнемогают от страданий.
Думаю, не станет преувеличением утверждение, что данное стихотворение в контексте «Откровения» раскрывается как повествование о последних днях, когда святые страдают и умирают, духовный свет угасает, и появляются ложные пророки, приносящие страдания и обман. И что, с очень высокой степенью вероятности, именно антихриста или ложного пророка представляет собой персонаж, который обольщает людей, обещая ложное спасение через насилие и обман. При этом сам он всегда светел, за ним следуют запахи лилий, и девы поют при нем песни. В то время как природа и человечество изнемогают в этих последних днях, ожидая окончательного суда и возрождения. Таков ли Спаситель?
Но если все же несколько отстраниться от «Откровения», то двойственность, особенно выразительно проявившаяся в двух последних катренах, укажет на нас, опишет нашу априорную светлую природу, являющуюся продолжением Творца, но в результате напластования внешних слоев ставшую чем-то неопределенным, амбивалентным.
Пожалуй, ниже мы приведем некоторые черты Христа из «Откровения», и, учитывая три интерпретации персонажа анализируемого стихотворения – антихрист, лжепророк, «мы» – выводы пусть каждый читатель сделает для себя сам.
Первая глава «Откровения» (Откровение 1:12-18): это первое видение Иоанна, в котором он описывает Христа среди семи золотых светильников:
«Голова Его и волосы белы, как белая волна, как снег»;
«Очи Его, как пламень огненный»;
«Ноги Его подобны халколивану, как раскаленные в печи»;
«Голос Его, как шум вод многих»;
«Он держал в деснице Своей семь звезд»;
«Из уст Его выходил острый с обеих сторон меч»;
«Лице Его, как солнце, сияющее в силе своей».
Пятая глава «Откровения» (Откровение 5:6-10): в этом видении Христос представлен как Агнец Божий:
«Агнец как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей».
Девятнадцатая глава «Откровения» (Откровение 19:11-16): здесь Христос описан как всепобеждающий Царь царей и Господь господствующих:
«Конь белый, и Сидящий на нем называется Верный и Истинный»;
«Очи у Него, как пламень огненный»;
«На голове Его много диадим»;
«Он был облечен в одежду, обагренную кровью»;
«Имя Ему: Слово Божие»;
«Из уст же Его исходит острый меч»;
«На одежде и на бедре Его написано имя: Царь царей и Господь господствующих».
Итак, настало время вернуться к вопросу, который мы оставили без ответа в конце предыдущей части нашей статьи: вопрос в том, как нам теперь из этого – из барокко – выбираться. Ибо здесь обещали мы на него ответить. Что ж, будем же держать данное слово.
Для начала, вспомним, что даже на фоне самых мрачных пророчеств – например (Откровение 13: 7-9): «И дано было ему вести войну со святыми и победить их; и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Кто имеет ухо, да слышит», – даже на фоне таких пророчеств Апокалипсис в «Откровении» Иоанна Богослова заканчивается триумфом добра над злом и установлением Нового Иерусалима.
Но давайте спросим, что на этот счет думает сама Марина?
Зацветает черёмуха, синь обнимает сирень,
и звенит, и дробится на воздухе солнце проспектов,
и в лесу городском, одуревшем от птичьих сирен,
дни становятся легче. Вольнее и шаг, и разбег их.
И губами листвы трепеща на весеннем ветру,
с человеком, с пылинкой, с росинкой и с божьей коровкой
говорит человек, что однажды сказал «не умру,
стану книгой из книг, наша встреча не будет короткой».
Он идёт по воде – подо льдом отмерзают мальки,
он земли не коснулся, но та выпускает побеги.
Мир болит в нем самом, и его наложеньем руки
жаль, уже не спасти, и свидание будет в побеге.
Он пришёл не карать за грехи, а спросить «как дела?»
всех поймет и простит. За метанья, за трёп и за трепет.
И закат над столицей, багрянцем омыв купола,
обратится вином, и до сердца дойдёт, и согреет.
Стоит ли комментировать данный текст? Пожалуй, мы обозначим лишь несамоочевидные моменты, которые, как может показаться, вступают в противоречие с предыдущим стихотворением.
Например, здесь – «Он идёт по воде – подо льдом отмерзают мальки, он земли не коснулся, но та выпускает побеги» – может показаться, что мы имеем дело с тем же символом «природных сил и инстинктов», о котором говорили выше в контексте антихриста и лжепророков. Но разница в том, что в данном случае движение жизни направленно от пророка к природе, там, где он проходит – мир воскресает, происходит возрождение природы. Он – дарует жизнь, а не мимикрирует под дарующего, он не использует и не повелевает природными силами. Пожалуй, здесь мы и остановим наш анализ и не станем полностью лишать читателя удовольствия поразмыслить над этим стихотворением «в тишине». Имеющий ухо да слышит…
И напоследок: кто же написал эти стихотворения? Ведь мы даже близко не коснулись их технической составляющей. Формальная сторона вопроса нас вообще не интересовала. Позволим же себе счесть это самым верным признаком мастерства автора, сумевшего заставить нас забыть о форме на время чтения. Но справедливости ради следует сказать, что техника формального мастерства Марины Марьяшной – мягко говоря, удивительна. Если от читателя последует запрос – мы непременно посвятим этой теме отдельную статью.
Часть 4. Цитаты, формульные строки, стихотворения
Античность. Гнев Паллады
***
«А потом, как зажил с одной, с другой,
С ними, голосящими о тряпье –
Обратилось слово твое трухой,
Заживо сгорело в печной трубе»
***
«как слушая арфу эолову
ты сделался строг и красив,
пронзенный лучом в грудь и в голову
плывя над крестами крапив»
***
«Так вот охота – просто поговорить,
Как выживала, не разлепляя рта,
И не пойми за что, и поко́м горит
Этот костёр, как ржавая пустота
Над головой. И мысль, проходя насквозь,
Бледный висок дырявяща, как сверло,
Тонко визжит и гнет черепную кость.
Сердце не бьётся. Холодно и светло».
***
«Исчезнет всё, что пело и боролось,
Сияло и рвалось,
Отчаливая на воздушный Родос,
На остров роз.
Исчезнет всё. И в небе монохромном
Чертя петлю,
Увижу ль как, застигнутые громом,
Бегут к белью
Какие-то иссохшие старухи,
Тазы таща?
Кипит работа. Деды пьют со скуки,
И ждут дождя.
И думают, как лихо мир сдавали,
И бред иной,
С какого дня пошло существованье,
И кто виной
За морок, разносимый по нейронам,
За дней отлив,
Что смрадным духом просмолит, нутро нам
Испепелив?..
Увижу ль город, в поле, словно выкрест –
По купыри…
О бирюзе, что кости наши выест,
Не говори».
***
«Квадратные площади смоет,
Ландшафта заставку, и нас,
Палимых полуденным зноем,
Целующих иконостас.
Обнять бы кого посильнее,
Пока не заплачет раввин,
По лицам, подсветки синее,
И пиксельным рожам кривым».
***
«…Июньский закат медов
И вязок, что налегке нам
В подземную падать мглу
К наряженным манекенам,
Размазанным по стеклу».
Барокко
***
«Только пух, трава, заброшек линии
Стёклами сверкают, будто новодел.
Знаешь, если жить, то белой лилией
Белой лилией качаться на воде».
***
«Говори же с вещами на языке простом:
Рассыпается прахом тронутое перстом,
Если ты нас от братской свары спасти не мог,
Окати ледяной бедой с головы до ног»
***
«Нет на земле ни любви твоей, ни вездесущей
Правды в природе, одна бесовщина вокруг, беспредел да ворьё.
Иже если, да святится… И хлеб наш насущный
Ветром в колосьях прославлено имя твоё».
***
«всё заново. все повторяется.
ночь улица отблеск свечи
мы умерли вот неурядица
так пусто что лучше смолчи…
…умрешь переписывай заново
а скажут что ты и напел
кликуш проводя в белых саванах
под черные своды капелл»
***
«…Присядь на бугорке, почувствовав, как веет
Сибирским костерком подпаленный закат.
Все вроде хорошо. Ни топоры, ни пилы
Не лезут из углов…
…Мы парились в котлах, среди чинуш нервозных,
И воля их была терпимей мошкары.
Струился березняк, приклеенный на воздух,
И электричка шла, седая от жары».
***
«…Это местные боги, наверное, взъелись на нас,
Грозовыми хоругвями туч очертили скворечни.
Нет ни рая, ни ада, слыхали? Всевидит Глонасс,
Зависая над хаосом, путь исчисляя скорейший
В геометрию мира, где раб муравей муравью,
Где сшибаются трутни за сладость кровавого мёда.
Покрути у виска, покажи, как стремится к нулю
КПД возмущенья под цепким зрачком огнемёта»
Библейская символика
***
«И камень Адаму казался сидящей девой,
Плечами широк, и жилист, и тонконос,
Он вырвал в тоске ребро себе, флейту сделал,
Чтоб слезы излить, как Сирин и Алконост».
***
«…Лазарь, Лазарь, выйди вон,
Тишиной лазурь пронзая,
Звал не колокол, не звон,
Просто женщина босая
В темноту вошла, как в круг,
Роком, мороком, заботой.
Страшно, говоришь? А вдруг
В пеленах своих замотан,
Ты лежал бы вниз лицом
И метался по пещере,
Чужд всему и невесом,
Без надежды на прощенье?»
***
«я выбираю тридцать монет и правду
если не я то кто же тебя венчает
кто назовёт царём опояшет светом
разве за это можно казаться жалким
разве целуют в лоб не деля страданье»
Архетип
***
«Нас поймет пакет и гнилой банан.
Больше никто и не.
Ибо мы покинули дантов круг
Прибыли и затрат.
Мы трава. Сплетение ног и рук.
Девочка и солдат».
***
«Зачах кощей на золотой игле,
пришла зима и сказка в ней зависла»
***
«И казалось, что небо, прибитое на гвоздях,
Растрепалось на нитки, когда я ушла из дома.
И шумело вокруг, и в душу струил сквозняк,
Выдувая искон и сам становясь исконом».
***
«До весны залегло под лёд, перестало жечь
Бледнолицее солнце гравия и слюды,
По утрам, сквозь бычый пузырь золотится желчь,
Выжигает площадки, паркинги, детсады».
Музыка
***
«Да о чем я вообще? В черно-белом скрещении линий
Бархат ночи кромсает Феллини сквозь веер павлиний.
Не отсвечивай, сядь в уголок, и прикинься незрячей.
Можно всем торговать, если мы торговали нельзя чем».
***
«Хочешь спасу?
Уедем смотреть ковры.
С Щёлковской ходит автобус до Бухары.
Там золотые луны несут к столу.
Курят насвай и молятся на полу».
***
«Так и день проплывёт огнёвкой по дну пруда,
Без тревог и попыток умственного труда».
Детство
***
«Мне ли верить в проблеск подо льдом,
В хлебный мякиш, в сытое кочевье,
Если беды сносят на потом
На ветру звенящие качели?»
Разное
***
«И равного себе по силе зверя
Зима качает в снежной простыне
И водит месяц когтем по спине…
…Шагами тех блаженных, что вверху
О судаках судачат охмелело,
В пуховиках на рыбьем-то меху
Господь простит их. Зацветет омела.
Придет весна, и сойка затрещит,
И станет жизнь расхлябанней и проще.
И дух истлевший, в бледный саван вшит,
Вздохнет в его тепле, как ветер в роще».
***
«Нужно лишь впахивать понаяристей,
Не поддаваться сплину…
Взвизг электрички во тьме ноябрьской
Страшен, как выстрел в спину».
Часть 5. Кода
Стихотворения из еще невышедшего сборника Марины в разделе «Цитат» мы не рассматривали. Сделано это умышленно, чтобы, как минимум, «не сглазить». Но все же в качестве «коды» для данной статьи мы выбрали практически наугад стихотворение именно из будущего сборника. И оно оказалось шедевром… Поскольку в грядущем сборнике Марины Марьяшиной все тексты примерно того же полета, то мне, как коллеге по цеху, ничего другого не остается, как только с легкий сердцем и чистой совестью назвать Марину гением и, уступив дорогу, помочь пройти по ней как можно дальше.
Уходи, уходи. Только вечер уходит едва,
набегает золой городской, не достав до ядра
голубого пучка, горстки света, зеркальной игры
зажиганья конфорок от вспышки огня, от иглы
Той, что прячет кощей, златоглавый король мертвецов,
Тот, что чахнет над златом страны моей, где ни венцов,
Ни нажитого блага – лишь души поставив на кон,
Полыхают шумерские сумерки в шелесте крон,
Ибо есть возвращенье: истории, встреч и разлук,
Есть витки для судьбы и страны, что, как птица, из рук
Вылетает в окно, и над синим эфиром паря,
возвращает в природу движенье и ветер в поля
Цвета шерсти верблюжьей. Стеклярусом влаги усей
Всех домов корабли, пролетавших над бездною сей,
Ибо чувствует всяк, что проходит по сердцу разлом:
Это старые корни в земле, завязавшись узлом,
Расплетаются, как пред венчаньем девичья коса,
И взыскуют ответа: что делать – от света в глаза
Ежедневно слепящего, рвущего тьму пополам,
Оттого и ползут сквозняки по замшелым полам,
Обдирается краска, шуршат на ветру лепестки,
И вчистую расхищена память: ни соль, ни пески
Не отмоют ее, как червонец кощеева длань,
Потому что не жизнь, а бессонницы бледная рань
Нас встречает среди облетевших паршой пустырей,
И от взгляда в себя – не заметишь, как мир постарел,
И увидишь тогда, сам себя обгоняя в облёт,
Как на грустной земле моей весело солнце встаёт.
© Aldebaran 2024.
© Новиков Артур.