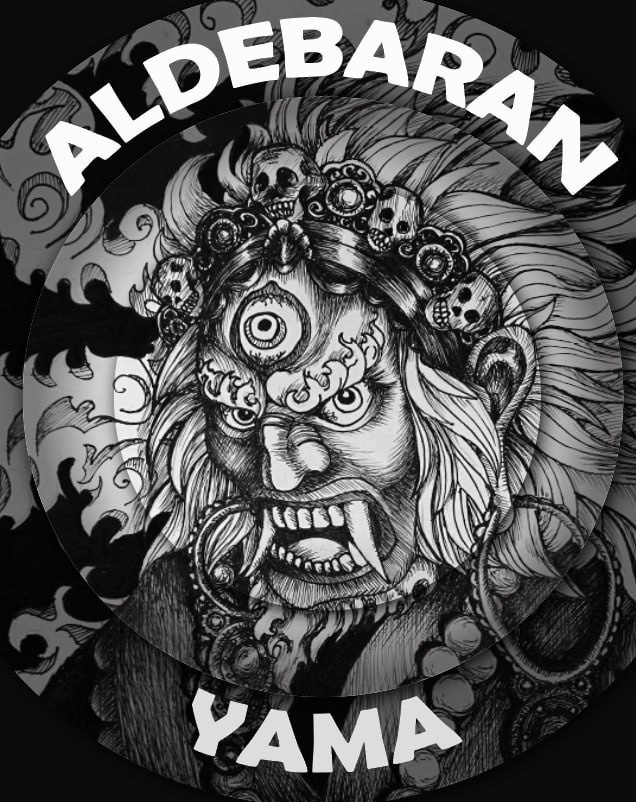Голоса полуденной пыли
Долматович Евгений
Рассказ
Вприпрыжку сквозь шелест пожухлой травы, сквозь стрекот кузнечиков, отплевываясь от тополиного пуха – незримые, лишь звонкостью голосов выдают они свое присутствие. Дети, подставляя обгоревшие лица палящему солнцу, замирают на миг, прищуриваются, выискивая на небе хоть одно облачко. Похожее на кораблик или на жирную лягушку, или на дракона… Но, увы, небо пустынно, как морская гладь, – такое же синее, безмятежное, бездонное. Такое же недосягаемое. А в центре – сияющая яркость, средоточие испепеляющего огня, солнце. А на лицах испарина, и темные разводы, и пух, и, местами, настырные слепни, сердито жужжащие, жаждущие увязнуть лапками в липком поте – ужалить, отведать свежей детской крови, высосать ясные детские глаза. Вокруг же брызжущие соком стебли и угловатые мясистые листья, и зонтики белых маленьких цветов, полные пчел и жуков-бронзовиков.
– Жарко, – говорит мальчик, в который раз прогоняя слепня.
– Жарко, – соглашается девочка, в который раз отмахиваясь от пуха.
И оба смотрят вдаль, на холм, где в знойном искажении, точно проклятый мираж, перебирает ветвями, вздыхает листвой старый тополь. Дуновения ветра срывают с него белые пушные облака – хоть какие-то облака, пусть и из пуха! – так июльский день тоскует о январской метели. Пух кружится, кружится и кружится, как снег, которого, кажется, никогда уже и не будет. Время застыло, потому что время мертво.
А дети упрямо идут к тополю сквозь заросли борщевика. Там, в прохладе тополиной листвы, дети надеются отыскать свои сны – увидеть, услышать, понять…
– Что нас там ждет? – спрашивает девочка.
– Будущее, – эхом отзывается мальчик, – и прошлое, и что-то еще.
Потерянные сны – когда-то с наступлением ночи они кошачьей поступью прокрадывались в комнату, медом ярких образов заливали глаза. Но поскольку время мертво, лето никогда не закончится, и полдень длится вечность – все жарче и жарче, – и, кажется, будто ночь – это тоже сон, наивная фантазия. Но нет! Ночь – это услада для глаз, иссушенных зноем, ослепших от полуденной яркости. Желанное отдохновение после долгих блужданий по пыльным дорогам, по заросшим тропам, по полям, где вдоволь душистого бурьяна, сквозь обжигающую вьюгу из мошкары и тополиного пуха. Ночь, темнота, звезды над головой и тишина, от которой мурашки по коже. Тишина! Отнюдь не дневное безмолвие – отупевшее, ленивое, полное только если стрекота да жужжания. Нет, ночная тишина иная. Дети помнят это, хотя порой им кажется, что они помнят вовсе не тишину, а какие-то свои выдумки.
А борщевик благоухает, сочится сладостью, так и манит прикоснуться, обхватить всей ладонью и разломить эти мощные, но хрупкие стебли, насытиться живительной влагой. Особенно когда на зубах скрипит пыль, а с опухшего языка не сходит солоноватый привкус собственного пота.
Но дети знают, что борщевик так же опасен, как и гадюка в сухостое, как и угрюмый шершень, залетевший в комнату и яростно бьющийся об стекло. Очень опасен! Так что лучше не трогать. Если, конечно, не хочешь вспучиться желтыми волдырями, задохнуться в крике от боли и после – много дней спустя – выцвести. Борщевик выжигает с тела цвета, делает тебя похожим на пепел. Дети знают это по научению взрослых, верят в это. И потому дорога к утраченным снам пролегает сквозь заросли борщевика. В этом тайный смысл – как в старых сказках на страницах потрепанных книг, которые когда-то читала мама. Путь должен быть тернист, иначе цель перестанет быть целью, путешествие превратится в прогулку.
– Глянь-ка! – вдруг произносит мальчик.
Он тычет пальцем – и там, поодаль, среди ядовитых стволов и чахлой бурой травы, скалится коровий череп. Однорогий, весь искрошенный, словно из мела, пожелтевший и давно уже лишенный плоти – ее аккуратно сняли и унесли муравьи – этот череп таращится на детей. Таращится на них тьмой глазниц, в которых калачиком свернулась смерть. Сама же тьма навевает мысли о недоступной ночи. Значит ли это, что смерть и ночь – сестры? Вряд ли. Дети ни разу не встречали смерть – заявившуюся на порог, тянущую костлявые пальцы. Не помнят они и как выглядит ночь. Поэтому тьма влечет своей неизвестностью. А уж тьма чьих-то глазниц – и подавно.
– Как думаешь, он заговорит? – спрашивает мальчик.
Девочка лишь пожимает плечами.
Тогда мальчик поднимает череп с земли, отряхивает его, прогоняя мокриц, и внимательно осматривает со всех сторон. Мальчик долго вглядывается в пустые глазницы, из которых, увы, уже расплескалась вся тьма. Солнечный свет выжег все. Мальчик молчит, прислушивается. Он жаждет услышать биение сердца, ток крови; жаждет уловить дыхание, из которого непременно родятся и слова…
Но слышит он лишь как щетинится листьями борщевик.
– Я знаю, что нужно делать, – наконец говорит мальчик.
– Что?
Вместо ответа он пробует напялить череп себе на голову, а когда это не получается, просто прикладывает к лицу, поворачивается к девочке.
И вот это уже не ее брат, но некто с коровьим черепом вместо лица. Девочка не боится. Она понимает, что ее брат исчез, а на его место явился кто-то иной. Кто-то из страны по ту сторону горизонта, страны, куда никогда не попасть; кто-то, живущий в прошедшем часе, который всегда будет «прошлым» и никогда «настоящим». Хранитель жутких тайн незнакомцев с черно-белых фотографий в шкафу или чужих голосов, замолкших на веки вечные, или тех невнятных жутковатых образов, что наполняют голову, если уснуть под палящими солнечными лучами…
– Кто ты? – спрашивает девочка.
– Му-у-у-у! – отвечает некто.
– Чего тебе надо?
– Му-у-у-у!
– А ну говори!
– Му-у-у-у!
Тогда, рассердившись, девочка хватает коровий череп за единственный уцелевший рог, вырывает из рук мальчика и, размахнувшись, швыряет в кусты.
Мальчик сонно моргает, жмурится от внезапно яркого – после замогильной-то темени! – солнца и с надеждой смотрит на девочку.
– Ну?
– Ничего, – качает та головой, – коровьи черепа не умеют говорить, только мычат.
– Жалко.
Мальчик смахивает со лба паутинку – ту самую, что, наверное, долго и усердно прорастала внутри коровьего черепа, в его мягкой бархатистой темноте. Прорастала сама, без помощи паука, который бы ни за что не стал тут селиться. Зачем? Жизнь покинула пространство, где некогда хранился коровий мозг, пульсировала недалекая коровья мысль. С приходом смерти плоть окоченела, скукожилась и чуть позже была украдена муравьями. Взамен жизни в образовавшейся пустоте разместилась смерть, а пауки не питаются смертью – это всем известно. Стало быть, паутинка возникла сама собой!
– Жалко, – снова повторяет мальчик.
– Не переживай, – пытается подбодрить девочка. Но тут она меняется в лице, пытливо смотрит на мальчика. – А может, зря мы все это? Может, нету там, на холме, ничего?
– Не болтай глупостей, – огрызается мальчик. – Тебе ведь это тоже снилось.
– Да, снилось. И что?
– Значит, нам именно туда. Значит, все ответы там.
– Но я ведь ничего не спрашивала! – упрямится девочка. – Мне не нужны никакие ответы, я не хочу ничего знать!
– Чепуха!
– Нет, не чепуха!
– А я говорю, чепуха!
Дети сердито глядят друг на друга, а над их головами порхает пух, жужжат приставучие слепни и шуршит листьями борщевик. Кроме этого ничего больше и нету – никаких тебе звуков, поле утопает в безмолвии, а безмолвие это сродни безмолвию смерти. От этого и бегут дети. Пусть и сами того не ведая, спасаются они от безмолвия, желая не столько заполучить ответы, сколько услышать голоса. Чьи угодно голоса, лишь бы не свои собственные.
Но пока что голоса звучат во снах, а сны эти потеряны, они стали чем-то навроде памяти – смутным образом, что вползает в голову через ухо, когда пытаешься уснуть. Дома ли, в душной спальне на пропахшей пылью кровати, или же растянувшись в тени под яблоней – как ни изворачивайся, а солнечный свет гонит сны прочь, ворует их. Остается только вспоминать самые первые сны, либо навеянные жарой фантазии.
Фантазии же, либо сны девочки, были о том, как она танцевала на лугу, как смеялась – даже нет, вовсю хохотала! – как глотала тополиный пух. Да и не девочка она уже была вовсе, а взрослая девушка, полная сил и, видимо, сумасшедшая. Но в этом ее сумасшествии лучилась жизнь, цвела и пела ее смирившаяся и обретшая покой душа. Сама же девушка была очень красива – босая, с россыпью веснушек на лице и ромашками в волосах, с золотыми искринками в раскосых янтарных глазах, в белой хлопковой сорочке на голое тело. Этакая нимфа-плясунья, беззаботная безумица, уверенная, что если проглотить пушинку-другую, то та обязательно даст ростки – там, внутри, где сердце, – и однажды взовьется из груди ветвистым деревцем. Этого девушка ждала и жаждала, салютуя жуку-пожарнику, даря воздушный поцелуй сорвавшемуся с ветки листку или споря с собачьей головой, что испокон веку истлевала в канаве за оградой. Голова рычала и лаяла, но никто ее не боялся, потому что у головы не было тела, а значит, она ни за кем не погонится, не укусит. Так и будет лежать эта голова, червям на радость. Эта и еще тысячи голов. И все их посмертное веселье лишь в перебранках – рефлекс, застывший в густоте мертвого времени. Вот как рассуждала та девушка-плясунья.
А еще она регулярно дразнила брата, поскольку верила, что душа ее – это не бесформенное облачко, вдыхаемое смертью из ноздрей покойника, но цветущее дерево. Смерть не властна над деревьями, ведь кора их слишком тверда для ее старушечьих зубов. А что касается брата – душа его была похожа на заклинившуюся в стволе пулю, на неразорвавшуюся, погребенную под завалами бомбу…
Мальчику же, в свою очередь, тоже снилось ли, грезилось всякое. Как и сестра, он был взрослым – поджарый, загорелый до черноты мужчина с усами и бородой. Он носил вылинявшие джинсы и клетчатую рубашку с закатанными рукавами. Он упорно чинил старенький мотоцикл, найденный среди хлама в гараже, то и дело вытирал рукой густой едкий пот, ненароком пачкая лицо в машинном масле. Он щурился от солнца, курил сигаретку и поглядывал на сестру. Наблюдал, как она пляшет, как ходит колесом или крутит сальто, как ловит ртом пух или расчесывает ожог от крапивы, как болтает с бабочками, с пчелами и остальными букашками. Он смотрел на нее беззлобно, только если с толикой грусти. Он не обижался на ее подзуживания, не игнорировал ее приставания и всегда отвечал на ее дурацкие вопросы. Он знал, что когда закончит чинить мотоцикл – бросит ее: умчится прочь по асфальтовой дороге, прочь из этого захолустья, где они оказались заперты, где прожили столько лет одни-одинешеньки, придумывая себе развлечения, изредка наведываясь в пустующие дома соседей, ругаясь и мирясь. Он отправится в город, потому что боится застрять здесь – в этом онемевшем доме – навсегда. Дом – отражение своего хозяина, но у этого дома хозяев нету, – он недостроенный, с комнатами, забитыми хламом, со скрипящими полами и сушеными мушиными трупиками на подоконниках. А в закутках, в затхлом мраке, если повезет, можно повстречать привидение – зыбкой тенью, отголоском ли, отражением в лопнувшем зеркале. И в мужчине они тоже есть – призраки, не важно, былого ли, грядущего. И в сестре его есть. Поэтому тот мужчина и хотел уехать. Он не желал быть пыльным домом, он рвался стать вольной дорогой, петляющей сквозь поля и горы, или же шумным городом, в котором все – загадка, и все меняется. Пыль и паутина в человеке никому не нужны. А что касается призраков, что ж… Бывает, они являются и прогоняют человека, занимают его место и становятся им. Поэтому мужчина и чинил мотоцикл.
А еще ему хотелось понять, что же на самом деле случилось? Почему все обернулось так, как обернулось? Он знал, что сестре известно о его планах, он их и не скрывал. И здесь между ними пролегла глубокая пропасть: сестра давно уже сдалась, приучила себя видеть нечто – красоту, как она сама говорила, – в том, что имеет. Ей не требовалось знание, достаточно было травы под ногами, отдыха в тени яблонь, вкуса земляники, притаившихся под кустом грибов и пробирающего холода колодезной воды, песней и плясок, пуха на языке… А он не мог этим удовлетвориться: не мог закрыть глаза на то, что лето не кончается, и ночь не наступает, и что в целом мире не осталось никого, кроме них двоих. Он хотел знать.
Так, вспомнив эти свои сны, дети опять глядят друг на друга.
– Неужто тебе так этого надо? – с грустью спрашивает девочка.
– Надо, – кивает мальчик.
– Она выглядела счастливой, – говорит девочка. – Та тетенька, которой я стану, когда вырасту. Такая красивая.
– Красивая, – соглашается мальчик, – и спятившая.
– Пусть так! – хмурится девочка. – Всяко лучше, чем вырасти в того мрачного дядьку и днями напролет ковыряться в этом ржавом драндулете.
– Это не драндулет, а мотоцикл, – говорит мальчик. – И однажды я отыщу его в гараже, и он увезет меня отсюда в город. Подальше от тебя.
– Ну и катись! – обижается девочка.
– А ты жуй свой пух, дура! – обижается мальчик.
И они угрюмо плетутся дальше – молча, сопя и пофыркивая, отчаянно стараясь не глядеть друг на друга. И длится это до тех пор, пока дремучие заросли не расступаются, открывая вид на зеленый холм, и на петляющую тропинку, уводящую прямиком к одинокому старому тополю. Вот так все просто: никакого тебе тайного смысла из лживых маминых сказок, путешествие и впрямь оказалось всего-навсего прогулкой.
Взойдя на холм, дети настороженно косятся друг на друга, затем поворачиваются и смотрят на поле борщевиков – белая бесконечность с редкими вкраплениями зеленого и желтого: цветы и листья. И так вплоть до самого горизонта. И если бы ни жара, если бы ни безжалостное солнце и струящийся по вискам пот, можно было бы подумать… да…
Мальчик закрывает глаза и, стараясь удержать отпечатавшуюся на сетчатке белизну, силится вспомнить зиму. Вьюга, снежная крошка в воздухе, пар от дыхания, раскрасневшиеся с мороза щеки и нос, и как трудно бежать по снегу, и как мягко в него падать, смеяться, а после… после…
…чтоб крепкие папины руки подхватили, обняли, поправили шапку на голове…
Так мальчик пытается вспомнить зиму, и у него это почти получается. Почти. Но тут больно обжигает запястье: слепень, жужжа, взмывает в воздух, вьется над головой.
Мальчик вздыхает: нет, не будет больше никакой зимы, даже грозы не будет, вечернего дождя и тумана поутру, как и вечера с утром не будет. Один только нескончаемый полдень, изматывающая жара, вечное молчание…
Мальчик оглядывается на сестру и видит, что та стоит и смотрит на тополь, слушает его усыпляющий шелест, который и не шелест вовсе, но шепот. Сам же мальчик не понимает этого шепота, слова тополя предназначены не ему.
– Что он тебе говорит? – спрашивает мальчик, подойдя к сестре.
– Что я ему снюсь, – отвечает девочка. – И всегда снилась.
– Как так?
– Не знаю. Он говорит, что он здесь уже очень давно, и все это время ему снилась я. Я и есть его сны.
– А я?
Не дождавшись ответа, мальчик отводит взгляд и вдруг замечает в земле, среди проступивших наружу корней, череп. Еще один, на этот раз человеческий. Он скалится на мальчика, манит его замогильной темнотой своих глазниц. Когда-то там были глаза, видавшие всякое…
– Может, хоть он заговорит? – спрашивает мальчик.
Девочка выглядывает у него из-за плеча, вздыхает.
– Мне кажется, черепа вообще не могут говорить, – произносит она.
– Почему?
– Потому что черепа мертвы, а смерть – это всегда молчание. Отсутствие голоса, звуков…
– Одно он точно может сказать, – неожиданно заявляет мальчик.
– Что именно?
– Что он – наше будущее.
На это девочка качает головой, отворачивается.
– Я не хочу, чтоб этот череп был моим будущим, – тихо произносит она. – Уж лучше я останусь сном, который снится одинокому дереву.
Она снова вздыхает, садится на землю и прижимается затылком к стволу тополя. Задумчиво глядит на бескрайнее поле борщевиков.
– Откуда мы вообще здесь взялись? – спрашивает она, зевая.
Мальчик порывается что-то ответить, как-то встряхнуть сестру, но вместо этого вновь смотрит на череп, вглядывается в мертвую черноту его глазниц. Потом, вспомнив что-то, прикладывает череп к уху – как делал когда-то давным-давно, на море, слушая голоса русалок внутри раковины.
Мальчик вслушивается.
И слышит шепот.
– Я твое прошлое, – говорит череп.
Тогда мальчик осторожно возвращает череп туда, откуда взял, сам же усаживается рядом с сестрой, берет ее за руку и тоже смотрит на поле борщевиков, на линию вдали, где поле соединяется с синевой неба. По-прежнему ни единого облачка, и никогда уже не будет.
– Ты все понял, да? – тихо спрашивает сестра.
– Наверно, – отзывается мальчик. – А ты?
– Не-а, – отвечает она, – ничего я не поняла. И не хочу.
– И правильно, – соглашается мальчик.
– Так откуда, все-таки, мы пришли?
Он поднимает руку и указывает на линию горизонта.
– Вон там, – говорит он, – с другой стороны. Там наш дом.
– А когда мы пойдем назад?
– Давай чуть попозже, хорошо? Я устал.
– Хорошо.
Мальчик кладет голову ей на плечо, закрывает глаза и мгновенно засыпает. Ему снится все тот же сон: что он взрослый мужчина с усами и бородой, ремонтирующий старый мотоцикл. Взрослый мужчина, рвущийся уехать как можно дальше. По асфальтированной дороге уехать. В город, который где-то далеко-далеко.
В этот раз ничто не тревожит сны мальчика, солнечные лучи не в силах пробиться сквозь густую листву, настырные слепни оставляют в покое, а сам холм вовсю продувается вольным ветром, гонящим жару прочь. И поэтому мальчик наконец видит, что мужчина починил свой мотоцикл. Работа, которая, казалось бы, никогда не закончится – таки закончилась. И вот мужчина вытер пот с лица, сел на потертое кожаное сиденье и неспешно поставил ногу на педаль стартера. Мотоцикл завелся с первого раза – взревел, нарушив привычную сонную тишину округи, обдав пыльный дом клубами черного дыма. Мужчина улыбнулся, поискал глазами сестру. Он не хотел задерживаться, его звала дорога. А значит, настало время прощаться.
Но сестры нигде не было видно. Мужчина искал ее в саду, и на лугу, где она обычно пела и танцевала, и у колодца, и даже обошел соседние дома. Сестра бесследно исчезла, как бесследно исчезали те странные сны, которые давно уже изводили мужчину: что они с сестрой – совсем еще дети – пробираются сквозь заросли борщевика к холму на горизонте. Холму, где рос одинокий тополь. Это был странный, тревожный сон, у которого не было ни начала, ни конца. Дети из того сна никогда не доходили до холма. Они терялись в ядовитых зарослях, спорили друг с другом, зачем-то разговаривали с коровьим черепом. Мужчина не рассказывал сестре об этом, так как сестра давно уже повредилась в уме, незачем бередить ей душу. Но однажды он таки собрался и дошел до того поля, постоял, осматриваясь, выискивая холм из своего сна. Холм он и вправду нашел, только вот никакого тополя на нем не было. Странные все же сны. И сестра его тоже странная. И вот она исчезла – в самый неподходящий момент. Но мужчина недолго думал, стоит ли искать ее дальше. Взамен он решил написать ей записку. В конце концов, сестра и так все знает. Возможно, оттого и исчезла – спряталась, услыхав рев мотоцикла. Тогда мужчина накарябал на листке бумаги несколько слов и приколол листок гвоздем к двери дома. После сел за руль мотоцикла и уехал.
Он мчался сквозь дорожную пыль и полуденный зной, навстречу неизвестности, оставляя за спиной все то, что его тяготило. И вот под колесами возник асфальт, ветер хлестнул в лицо, а по краям замелькали незнакомые пейзажи. Мужчина улыбнулся, рассмеялся, радостно закричал. Он был свободен, наконец-то свободен! Он с упоением вдыхал запах бензина, исходящий от мотоцикла, и слушал грозный рев двигателя, рвущего ленивую послеобеденную тишь, давно уже завязшую в ушах. Мужчина ощущал под собой жар – такова была жизнь машины, которую он смог выхватить из лап смерти, отчистить, починить, натурально воскресить. Это стало синонимом перемен, это дарило надежду. А впереди – там, за холмами, его ждал город. Город…
И мужчину столь захватило нетерпение, он буквально захлебнулся новыми впечатлениями, что не заметил, как изменился пейзаж. Густые леса с затянутыми тиной прудами, живописные озера, луга, полные цветов, и стремительные реки – все исчезло. Обернулось выжженной пустыней, где тут и там проступали обугленные черные стволы – все, что осталось от росших здесь некогда деревьев. Стало жарче – настолько, что асфальт плавился под колесами, прилипал к покрышкам. Лицо и руки обожгло, но мужчина упрямо гнал вперед. Он не остановился даже тогда, когда его кожа пошла красными пятнами, вздулась и начала облезать. Не остановился, когда в венах вскипела кровь. Мужчина не чувствовал боли, он желал лишь одного – как можно скорее увидеть город. И тут в бензобаке что-то хлопнуло, повалил дым, мотоцикл закашлялся и заглох. Мужчина бросил его и только теперь заметил, что покрышки давно расплавились, смешавшись с мягким, точно патока, асфальтом. Это было не важно. Город был совсем рядом, оставалось подняться на холм, а с него…
И мужчина пошел. Его одежда истлела, плоть обуглилась, комками повисла на костях. Его глаза забурлили в глазницах, как бурлит в кастрюле выкипающая вода. Глаза выплеснулись на щеки. Но и на это мужчина не обратил внимания. Пусть он лишился глаз, но по-прежнему видел – каким-то внутренним взором. Он верил. Он знал.
И потому, когда он – в сущности, уже скелет – поднялся на холм и глянул на город, ни единого звука не вырвалось из его груди, в которой не осталось легких. Как не было и города перед ним. Все та же выжженная до состояния стекла пустошь, остовы домов, искореженные от гари кузова машин. Здесь солнце излилось на землю, вызрело огненными грибами и убило время. И тех из жителей, кто был рядом, развеяло в ослепительном сиянии. А их отныне бесхозные тени были пригвождены к стенам, вросли в них, отпечатавшись размазанными силуэтами. Но среди жителей были и другие, кому повезло меньше. Их черепа усеяли площади и улицы, кости выгорели до угольков. Уставившись в пылающее небо пустыми глазницами, эти несчастные скалились и вопили. Так нескончаемый вопль плыл над развалинами, смешивался с едким черным дымом. А вокруг с воем проносились огненные смерчи, пожирая то немногое, что еще уцелело.
Город был мертв.
И тогда мужчина все понял. Он хотел было разрыдаться, но у него не осталось ни глаз, ни лица, а в слезных протоках ютился огонь.
И вот этот дымящийся опаленный скелет стоял и смотрел на руины дымящегося опаленного города. Мертвое таращилось на мертвое. А потом скелет развернулся и побрел обратно – туда, откуда так стремился сбежать. Нет, разумеется, он не собирался возвращаться к сестре – зачем пугать ее своим видом? Зачем нести ей столь удручающее знание? Но оставаться в мертвом городе ему тоже не хотелось. Поэтому он просто шел по дороге, не обращая внимания на то, как остекленевшая пустыня вновь сменяется лесом, прудами и озерами, и душистыми лугами с журчащими реками, и как рассеивается черный дым, ветер уносит запах гари, и как твердеет под ногами асфальт…
В какой-то момент он не выдержал и свернул с дороги, побрел через поле, касаясь костлявой рукой высокой травы и кустов, не чувствуя больше их мягкости. А затем его обугленные пальцы нашли и листья борщевика. Но он не отдернул руку, так как уже не боялся схватить ожог, не боялся выцвести и превратиться в пепел. Он знал, что сам уже стал пеплом, и все, чего ему отныне хотелось, – взобраться на холм, в последний раз заглянуть в небесную синеву, которая как море, как океан из детских воспоминаний; взглянуть на бескрайнее поле цветущего борщевика, которое как заснеженная пустыня, и, наконец, обрести покой.
Так он и сделал, присев на холме и обратив лицо ввысь.
Он подумал о сестре. Ему захотелось обнять ее, сказать, что она права – мертвецы не могут говорить, только вопят в нескончаемой агонии, так что молчание порой не так уж и плохо. Но тут подул ветер, и кости его рассыпались в пыль. Череп же свалился в душистую траву, да так там и остался.
Таков сон мальчика.
Девочке же, которая засыпает чуть позже брата, тоже снятся сны.
И в этих снах она осталась совершенно одна. Пускай и взрослая девушка – плясунья-хохотушка, лесная нимфа – она испугалась жуткого рева, кинулась прочь. Она прокралась меж кустов смородины, юркнула в березовую рощу и разыскала там давно оставленную лисью нору. Забравшись внутрь, свернулась калачиком.
Девушка понимала, что грозный рев этот – вовсе не какое-нибудь чудище. Да и откуда им тут, собственно, взяться, чудищам этим? Нет! Грозный рев, который она услыхала, – это перемены. А перемены пугали ее, потому что, пусть и не зная наверняка, она догадывалась, что именно перемены убили время, сделали летний день бесконечным. Не сразу, но она научилась жить с этим. Научилась ценить красоту застывшего мига – словно бабочку в янтаре, пускай неживую, но все равно прекрасную. В конце концов, чем они сами, как и все окружающее, отличаются от этой бабочки?
Если так рассудить, мир тоже застыл в янтаре из солнечного света и летней жары – мертвый мир и мертвое время. Никакого «вчера», никакого «сегодня» и уж тем более никакого «завтра». Звучит ужасно, но стоит ли тогда слушать? Ведь если не допытываться ответов, не требовать, чтоб черепа заговорили, не искать утраченные сны, которые в голой сути своей кошмары минувшего, то… Остается красота.
Этим и жила девушка, сочиняя различные небылицы, танцуя, смеясь, наслаждаясь обществом жуков-пауков, да той же собачьей головы, потявкивавшей из канавы за оградой. И так до тех пор, пока не раздался ужасный рев. Поэтому девушка спряталась, затаилась и уснула. Ей снилась она сама же, снился ее брат. Во сне этом они были еще детьми, шли куда-то через высокие ядовитые столбы и мясистые листья, отмахивались от назойливых слепней, болтали с коровьей черепушкой. А после был холм, была шелковистая трава под ногами и высокий старый тополь, который что-то шептал – устало шептал, как старик. Это было чудно, пусть подобные сны ей снились и раньше: путь через борщевик, старый тополь на холме, те слова, что он говорил – что-то важное, но что именно – девушка не запомнила. И теперь опять не запомнила, лишь открыла глаза, сладко потянулась, зевнула и осторожно выбралась из норы. Вокруг было тихо, солнечно-ярко, в небе порхали-кружили пушинки, – все как всегда.
Девушка побежала к дому, хотела найти брата. Но в доме того не оказалось. И нигде не оказалось. И мотоцикла его тоже не было.
Тогда-то девушка и поняла, что за звук она слышала – перемены: брат наконец починил свой ржавый драндулет, бросил ее одну. Где-то здесь она обнаружила и его записку, которую проглядела в первый раз. Несколько скупых слов. Брат уехал в город, надеялся отыскать ответы или родителей, или хоть кого-то…
Вранье! Он просто сбежал.
И, скомкав записку, девушка замерла на пороге, вздохнула и, помедлив, шагнула в теперь уже по-настоящему пустой дом. Она потерялась в его комнатах, заблудилась среди пыли старинных книг со сказками и выцветших фотографий с незнакомцами. Она запуталась в паутине ничейных вещей. Ее впервые испугало молчание дома – немота заброшенной могилы, безмолвие смерти. Ей стало трудно дышать от нахлынувшего прошлого – затхлого, как воздух на чердаке, неизбежного, как осиные гнезда под крышей. Девушка почувствовала, что отравилась прошлым, заболела – настолько ей сдавило грудь. И тогда она бросилась прочь из дома – в кипящее золото летнего дня, в июльский зной, навстречу тополиному пуху, стрекоту жучков и голосам листвы. В груди свербело: что-то будто бы извивалось там, внутри, рядом с сердцем. И девушка побежала еще дальше – от дома, от двора, ничего не разбирая перед собой, еще и еще. Пока не запыхалась вовсе, не споткнулась и не упала.
А когда поднялась, не сразу осознала, где именно очутилась. Борщевики сочились соком, благоухали травяной сладостью, манили своими мясистыми, в желтых прожилках, листьями, предлагали свои ядовитые объятия. А там, сразу за ними, возвышался одинокий холм из ее полузабытых снов.
И она неспешно пошла к нему, пересекла поле, взошла на холм и огляделась. Безоблачное синее небо, палящее солнце и безграничная белизна маленьких белых цветов. А у ног ее лежал обугленный человеческий череп. Девушка присела, ласково погладила череп, вздохнула. Смахнув слезу, она легла на спину, закрыла глаза и попыталась уснуть. Ей хотелось вернуться в прошлое – в свое детство, которое она регулярно видела во снах. Ей хотелось сидеть в тени большого старого тополя, обнимать своего мирно спящего брата, думать о чем-то… А еще лучше ни о чем не думать. Просто быть…
Быть…
Так девушка и лежала, когда ее грудная клетка вдруг раскрылась, и из алого нутра возник первый росток, увенчанный одним-единственным зеленым листком. Росток этот уверенно потянулся к солнцу, зачерствел корой, распростер свои ветви и сделался высоким тополем. Он впитал в себя тело девушки, нежно обнял корнями обугленный череп, тяжело вздохнул и погрузился в дрему.
И грезятся ему с тех пор голоса – несущиеся над крышами опустевших домов, над пожухлой травой, над густыми лесами, над полем борщевиков, – задорные, звонкие, будто взмывающие ввысь, к солнцу, в облака из пуха.
Но то голоса отнюдь не детей.
То голоса полуденной пыли.
© Aldebaran 2023.
© Долматович Евгений.
– Жарко, – говорит мальчик, в который раз прогоняя слепня.
– Жарко, – соглашается девочка, в который раз отмахиваясь от пуха.
И оба смотрят вдаль, на холм, где в знойном искажении, точно проклятый мираж, перебирает ветвями, вздыхает листвой старый тополь. Дуновения ветра срывают с него белые пушные облака – хоть какие-то облака, пусть и из пуха! – так июльский день тоскует о январской метели. Пух кружится, кружится и кружится, как снег, которого, кажется, никогда уже и не будет. Время застыло, потому что время мертво.
А дети упрямо идут к тополю сквозь заросли борщевика. Там, в прохладе тополиной листвы, дети надеются отыскать свои сны – увидеть, услышать, понять…
– Что нас там ждет? – спрашивает девочка.
– Будущее, – эхом отзывается мальчик, – и прошлое, и что-то еще.
Потерянные сны – когда-то с наступлением ночи они кошачьей поступью прокрадывались в комнату, медом ярких образов заливали глаза. Но поскольку время мертво, лето никогда не закончится, и полдень длится вечность – все жарче и жарче, – и, кажется, будто ночь – это тоже сон, наивная фантазия. Но нет! Ночь – это услада для глаз, иссушенных зноем, ослепших от полуденной яркости. Желанное отдохновение после долгих блужданий по пыльным дорогам, по заросшим тропам, по полям, где вдоволь душистого бурьяна, сквозь обжигающую вьюгу из мошкары и тополиного пуха. Ночь, темнота, звезды над головой и тишина, от которой мурашки по коже. Тишина! Отнюдь не дневное безмолвие – отупевшее, ленивое, полное только если стрекота да жужжания. Нет, ночная тишина иная. Дети помнят это, хотя порой им кажется, что они помнят вовсе не тишину, а какие-то свои выдумки.
А борщевик благоухает, сочится сладостью, так и манит прикоснуться, обхватить всей ладонью и разломить эти мощные, но хрупкие стебли, насытиться живительной влагой. Особенно когда на зубах скрипит пыль, а с опухшего языка не сходит солоноватый привкус собственного пота.
Но дети знают, что борщевик так же опасен, как и гадюка в сухостое, как и угрюмый шершень, залетевший в комнату и яростно бьющийся об стекло. Очень опасен! Так что лучше не трогать. Если, конечно, не хочешь вспучиться желтыми волдырями, задохнуться в крике от боли и после – много дней спустя – выцвести. Борщевик выжигает с тела цвета, делает тебя похожим на пепел. Дети знают это по научению взрослых, верят в это. И потому дорога к утраченным снам пролегает сквозь заросли борщевика. В этом тайный смысл – как в старых сказках на страницах потрепанных книг, которые когда-то читала мама. Путь должен быть тернист, иначе цель перестанет быть целью, путешествие превратится в прогулку.
– Глянь-ка! – вдруг произносит мальчик.
Он тычет пальцем – и там, поодаль, среди ядовитых стволов и чахлой бурой травы, скалится коровий череп. Однорогий, весь искрошенный, словно из мела, пожелтевший и давно уже лишенный плоти – ее аккуратно сняли и унесли муравьи – этот череп таращится на детей. Таращится на них тьмой глазниц, в которых калачиком свернулась смерть. Сама же тьма навевает мысли о недоступной ночи. Значит ли это, что смерть и ночь – сестры? Вряд ли. Дети ни разу не встречали смерть – заявившуюся на порог, тянущую костлявые пальцы. Не помнят они и как выглядит ночь. Поэтому тьма влечет своей неизвестностью. А уж тьма чьих-то глазниц – и подавно.
– Как думаешь, он заговорит? – спрашивает мальчик.
Девочка лишь пожимает плечами.
Тогда мальчик поднимает череп с земли, отряхивает его, прогоняя мокриц, и внимательно осматривает со всех сторон. Мальчик долго вглядывается в пустые глазницы, из которых, увы, уже расплескалась вся тьма. Солнечный свет выжег все. Мальчик молчит, прислушивается. Он жаждет услышать биение сердца, ток крови; жаждет уловить дыхание, из которого непременно родятся и слова…
Но слышит он лишь как щетинится листьями борщевик.
– Я знаю, что нужно делать, – наконец говорит мальчик.
– Что?
Вместо ответа он пробует напялить череп себе на голову, а когда это не получается, просто прикладывает к лицу, поворачивается к девочке.
И вот это уже не ее брат, но некто с коровьим черепом вместо лица. Девочка не боится. Она понимает, что ее брат исчез, а на его место явился кто-то иной. Кто-то из страны по ту сторону горизонта, страны, куда никогда не попасть; кто-то, живущий в прошедшем часе, который всегда будет «прошлым» и никогда «настоящим». Хранитель жутких тайн незнакомцев с черно-белых фотографий в шкафу или чужих голосов, замолкших на веки вечные, или тех невнятных жутковатых образов, что наполняют голову, если уснуть под палящими солнечными лучами…
– Кто ты? – спрашивает девочка.
– Му-у-у-у! – отвечает некто.
– Чего тебе надо?
– Му-у-у-у!
– А ну говори!
– Му-у-у-у!
Тогда, рассердившись, девочка хватает коровий череп за единственный уцелевший рог, вырывает из рук мальчика и, размахнувшись, швыряет в кусты.
Мальчик сонно моргает, жмурится от внезапно яркого – после замогильной-то темени! – солнца и с надеждой смотрит на девочку.
– Ну?
– Ничего, – качает та головой, – коровьи черепа не умеют говорить, только мычат.
– Жалко.
Мальчик смахивает со лба паутинку – ту самую, что, наверное, долго и усердно прорастала внутри коровьего черепа, в его мягкой бархатистой темноте. Прорастала сама, без помощи паука, который бы ни за что не стал тут селиться. Зачем? Жизнь покинула пространство, где некогда хранился коровий мозг, пульсировала недалекая коровья мысль. С приходом смерти плоть окоченела, скукожилась и чуть позже была украдена муравьями. Взамен жизни в образовавшейся пустоте разместилась смерть, а пауки не питаются смертью – это всем известно. Стало быть, паутинка возникла сама собой!
– Жалко, – снова повторяет мальчик.
– Не переживай, – пытается подбодрить девочка. Но тут она меняется в лице, пытливо смотрит на мальчика. – А может, зря мы все это? Может, нету там, на холме, ничего?
– Не болтай глупостей, – огрызается мальчик. – Тебе ведь это тоже снилось.
– Да, снилось. И что?
– Значит, нам именно туда. Значит, все ответы там.
– Но я ведь ничего не спрашивала! – упрямится девочка. – Мне не нужны никакие ответы, я не хочу ничего знать!
– Чепуха!
– Нет, не чепуха!
– А я говорю, чепуха!
Дети сердито глядят друг на друга, а над их головами порхает пух, жужжат приставучие слепни и шуршит листьями борщевик. Кроме этого ничего больше и нету – никаких тебе звуков, поле утопает в безмолвии, а безмолвие это сродни безмолвию смерти. От этого и бегут дети. Пусть и сами того не ведая, спасаются они от безмолвия, желая не столько заполучить ответы, сколько услышать голоса. Чьи угодно голоса, лишь бы не свои собственные.
Но пока что голоса звучат во снах, а сны эти потеряны, они стали чем-то навроде памяти – смутным образом, что вползает в голову через ухо, когда пытаешься уснуть. Дома ли, в душной спальне на пропахшей пылью кровати, или же растянувшись в тени под яблоней – как ни изворачивайся, а солнечный свет гонит сны прочь, ворует их. Остается только вспоминать самые первые сны, либо навеянные жарой фантазии.
Фантазии же, либо сны девочки, были о том, как она танцевала на лугу, как смеялась – даже нет, вовсю хохотала! – как глотала тополиный пух. Да и не девочка она уже была вовсе, а взрослая девушка, полная сил и, видимо, сумасшедшая. Но в этом ее сумасшествии лучилась жизнь, цвела и пела ее смирившаяся и обретшая покой душа. Сама же девушка была очень красива – босая, с россыпью веснушек на лице и ромашками в волосах, с золотыми искринками в раскосых янтарных глазах, в белой хлопковой сорочке на голое тело. Этакая нимфа-плясунья, беззаботная безумица, уверенная, что если проглотить пушинку-другую, то та обязательно даст ростки – там, внутри, где сердце, – и однажды взовьется из груди ветвистым деревцем. Этого девушка ждала и жаждала, салютуя жуку-пожарнику, даря воздушный поцелуй сорвавшемуся с ветки листку или споря с собачьей головой, что испокон веку истлевала в канаве за оградой. Голова рычала и лаяла, но никто ее не боялся, потому что у головы не было тела, а значит, она ни за кем не погонится, не укусит. Так и будет лежать эта голова, червям на радость. Эта и еще тысячи голов. И все их посмертное веселье лишь в перебранках – рефлекс, застывший в густоте мертвого времени. Вот как рассуждала та девушка-плясунья.
А еще она регулярно дразнила брата, поскольку верила, что душа ее – это не бесформенное облачко, вдыхаемое смертью из ноздрей покойника, но цветущее дерево. Смерть не властна над деревьями, ведь кора их слишком тверда для ее старушечьих зубов. А что касается брата – душа его была похожа на заклинившуюся в стволе пулю, на неразорвавшуюся, погребенную под завалами бомбу…
Мальчику же, в свою очередь, тоже снилось ли, грезилось всякое. Как и сестра, он был взрослым – поджарый, загорелый до черноты мужчина с усами и бородой. Он носил вылинявшие джинсы и клетчатую рубашку с закатанными рукавами. Он упорно чинил старенький мотоцикл, найденный среди хлама в гараже, то и дело вытирал рукой густой едкий пот, ненароком пачкая лицо в машинном масле. Он щурился от солнца, курил сигаретку и поглядывал на сестру. Наблюдал, как она пляшет, как ходит колесом или крутит сальто, как ловит ртом пух или расчесывает ожог от крапивы, как болтает с бабочками, с пчелами и остальными букашками. Он смотрел на нее беззлобно, только если с толикой грусти. Он не обижался на ее подзуживания, не игнорировал ее приставания и всегда отвечал на ее дурацкие вопросы. Он знал, что когда закончит чинить мотоцикл – бросит ее: умчится прочь по асфальтовой дороге, прочь из этого захолустья, где они оказались заперты, где прожили столько лет одни-одинешеньки, придумывая себе развлечения, изредка наведываясь в пустующие дома соседей, ругаясь и мирясь. Он отправится в город, потому что боится застрять здесь – в этом онемевшем доме – навсегда. Дом – отражение своего хозяина, но у этого дома хозяев нету, – он недостроенный, с комнатами, забитыми хламом, со скрипящими полами и сушеными мушиными трупиками на подоконниках. А в закутках, в затхлом мраке, если повезет, можно повстречать привидение – зыбкой тенью, отголоском ли, отражением в лопнувшем зеркале. И в мужчине они тоже есть – призраки, не важно, былого ли, грядущего. И в сестре его есть. Поэтому тот мужчина и хотел уехать. Он не желал быть пыльным домом, он рвался стать вольной дорогой, петляющей сквозь поля и горы, или же шумным городом, в котором все – загадка, и все меняется. Пыль и паутина в человеке никому не нужны. А что касается призраков, что ж… Бывает, они являются и прогоняют человека, занимают его место и становятся им. Поэтому мужчина и чинил мотоцикл.
А еще ему хотелось понять, что же на самом деле случилось? Почему все обернулось так, как обернулось? Он знал, что сестре известно о его планах, он их и не скрывал. И здесь между ними пролегла глубокая пропасть: сестра давно уже сдалась, приучила себя видеть нечто – красоту, как она сама говорила, – в том, что имеет. Ей не требовалось знание, достаточно было травы под ногами, отдыха в тени яблонь, вкуса земляники, притаившихся под кустом грибов и пробирающего холода колодезной воды, песней и плясок, пуха на языке… А он не мог этим удовлетвориться: не мог закрыть глаза на то, что лето не кончается, и ночь не наступает, и что в целом мире не осталось никого, кроме них двоих. Он хотел знать.
Так, вспомнив эти свои сны, дети опять глядят друг на друга.
– Неужто тебе так этого надо? – с грустью спрашивает девочка.
– Надо, – кивает мальчик.
– Она выглядела счастливой, – говорит девочка. – Та тетенька, которой я стану, когда вырасту. Такая красивая.
– Красивая, – соглашается мальчик, – и спятившая.
– Пусть так! – хмурится девочка. – Всяко лучше, чем вырасти в того мрачного дядьку и днями напролет ковыряться в этом ржавом драндулете.
– Это не драндулет, а мотоцикл, – говорит мальчик. – И однажды я отыщу его в гараже, и он увезет меня отсюда в город. Подальше от тебя.
– Ну и катись! – обижается девочка.
– А ты жуй свой пух, дура! – обижается мальчик.
И они угрюмо плетутся дальше – молча, сопя и пофыркивая, отчаянно стараясь не глядеть друг на друга. И длится это до тех пор, пока дремучие заросли не расступаются, открывая вид на зеленый холм, и на петляющую тропинку, уводящую прямиком к одинокому старому тополю. Вот так все просто: никакого тебе тайного смысла из лживых маминых сказок, путешествие и впрямь оказалось всего-навсего прогулкой.
Взойдя на холм, дети настороженно косятся друг на друга, затем поворачиваются и смотрят на поле борщевиков – белая бесконечность с редкими вкраплениями зеленого и желтого: цветы и листья. И так вплоть до самого горизонта. И если бы ни жара, если бы ни безжалостное солнце и струящийся по вискам пот, можно было бы подумать… да…
Мальчик закрывает глаза и, стараясь удержать отпечатавшуюся на сетчатке белизну, силится вспомнить зиму. Вьюга, снежная крошка в воздухе, пар от дыхания, раскрасневшиеся с мороза щеки и нос, и как трудно бежать по снегу, и как мягко в него падать, смеяться, а после… после…
…чтоб крепкие папины руки подхватили, обняли, поправили шапку на голове…
Так мальчик пытается вспомнить зиму, и у него это почти получается. Почти. Но тут больно обжигает запястье: слепень, жужжа, взмывает в воздух, вьется над головой.
Мальчик вздыхает: нет, не будет больше никакой зимы, даже грозы не будет, вечернего дождя и тумана поутру, как и вечера с утром не будет. Один только нескончаемый полдень, изматывающая жара, вечное молчание…
Мальчик оглядывается на сестру и видит, что та стоит и смотрит на тополь, слушает его усыпляющий шелест, который и не шелест вовсе, но шепот. Сам же мальчик не понимает этого шепота, слова тополя предназначены не ему.
– Что он тебе говорит? – спрашивает мальчик, подойдя к сестре.
– Что я ему снюсь, – отвечает девочка. – И всегда снилась.
– Как так?
– Не знаю. Он говорит, что он здесь уже очень давно, и все это время ему снилась я. Я и есть его сны.
– А я?
Не дождавшись ответа, мальчик отводит взгляд и вдруг замечает в земле, среди проступивших наружу корней, череп. Еще один, на этот раз человеческий. Он скалится на мальчика, манит его замогильной темнотой своих глазниц. Когда-то там были глаза, видавшие всякое…
– Может, хоть он заговорит? – спрашивает мальчик.
Девочка выглядывает у него из-за плеча, вздыхает.
– Мне кажется, черепа вообще не могут говорить, – произносит она.
– Почему?
– Потому что черепа мертвы, а смерть – это всегда молчание. Отсутствие голоса, звуков…
– Одно он точно может сказать, – неожиданно заявляет мальчик.
– Что именно?
– Что он – наше будущее.
На это девочка качает головой, отворачивается.
– Я не хочу, чтоб этот череп был моим будущим, – тихо произносит она. – Уж лучше я останусь сном, который снится одинокому дереву.
Она снова вздыхает, садится на землю и прижимается затылком к стволу тополя. Задумчиво глядит на бескрайнее поле борщевиков.
– Откуда мы вообще здесь взялись? – спрашивает она, зевая.
Мальчик порывается что-то ответить, как-то встряхнуть сестру, но вместо этого вновь смотрит на череп, вглядывается в мертвую черноту его глазниц. Потом, вспомнив что-то, прикладывает череп к уху – как делал когда-то давным-давно, на море, слушая голоса русалок внутри раковины.
Мальчик вслушивается.
И слышит шепот.
– Я твое прошлое, – говорит череп.
Тогда мальчик осторожно возвращает череп туда, откуда взял, сам же усаживается рядом с сестрой, берет ее за руку и тоже смотрит на поле борщевиков, на линию вдали, где поле соединяется с синевой неба. По-прежнему ни единого облачка, и никогда уже не будет.
– Ты все понял, да? – тихо спрашивает сестра.
– Наверно, – отзывается мальчик. – А ты?
– Не-а, – отвечает она, – ничего я не поняла. И не хочу.
– И правильно, – соглашается мальчик.
– Так откуда, все-таки, мы пришли?
Он поднимает руку и указывает на линию горизонта.
– Вон там, – говорит он, – с другой стороны. Там наш дом.
– А когда мы пойдем назад?
– Давай чуть попозже, хорошо? Я устал.
– Хорошо.
Мальчик кладет голову ей на плечо, закрывает глаза и мгновенно засыпает. Ему снится все тот же сон: что он взрослый мужчина с усами и бородой, ремонтирующий старый мотоцикл. Взрослый мужчина, рвущийся уехать как можно дальше. По асфальтированной дороге уехать. В город, который где-то далеко-далеко.
В этот раз ничто не тревожит сны мальчика, солнечные лучи не в силах пробиться сквозь густую листву, настырные слепни оставляют в покое, а сам холм вовсю продувается вольным ветром, гонящим жару прочь. И поэтому мальчик наконец видит, что мужчина починил свой мотоцикл. Работа, которая, казалось бы, никогда не закончится – таки закончилась. И вот мужчина вытер пот с лица, сел на потертое кожаное сиденье и неспешно поставил ногу на педаль стартера. Мотоцикл завелся с первого раза – взревел, нарушив привычную сонную тишину округи, обдав пыльный дом клубами черного дыма. Мужчина улыбнулся, поискал глазами сестру. Он не хотел задерживаться, его звала дорога. А значит, настало время прощаться.
Но сестры нигде не было видно. Мужчина искал ее в саду, и на лугу, где она обычно пела и танцевала, и у колодца, и даже обошел соседние дома. Сестра бесследно исчезла, как бесследно исчезали те странные сны, которые давно уже изводили мужчину: что они с сестрой – совсем еще дети – пробираются сквозь заросли борщевика к холму на горизонте. Холму, где рос одинокий тополь. Это был странный, тревожный сон, у которого не было ни начала, ни конца. Дети из того сна никогда не доходили до холма. Они терялись в ядовитых зарослях, спорили друг с другом, зачем-то разговаривали с коровьим черепом. Мужчина не рассказывал сестре об этом, так как сестра давно уже повредилась в уме, незачем бередить ей душу. Но однажды он таки собрался и дошел до того поля, постоял, осматриваясь, выискивая холм из своего сна. Холм он и вправду нашел, только вот никакого тополя на нем не было. Странные все же сны. И сестра его тоже странная. И вот она исчезла – в самый неподходящий момент. Но мужчина недолго думал, стоит ли искать ее дальше. Взамен он решил написать ей записку. В конце концов, сестра и так все знает. Возможно, оттого и исчезла – спряталась, услыхав рев мотоцикла. Тогда мужчина накарябал на листке бумаги несколько слов и приколол листок гвоздем к двери дома. После сел за руль мотоцикла и уехал.
Он мчался сквозь дорожную пыль и полуденный зной, навстречу неизвестности, оставляя за спиной все то, что его тяготило. И вот под колесами возник асфальт, ветер хлестнул в лицо, а по краям замелькали незнакомые пейзажи. Мужчина улыбнулся, рассмеялся, радостно закричал. Он был свободен, наконец-то свободен! Он с упоением вдыхал запах бензина, исходящий от мотоцикла, и слушал грозный рев двигателя, рвущего ленивую послеобеденную тишь, давно уже завязшую в ушах. Мужчина ощущал под собой жар – такова была жизнь машины, которую он смог выхватить из лап смерти, отчистить, починить, натурально воскресить. Это стало синонимом перемен, это дарило надежду. А впереди – там, за холмами, его ждал город. Город…
И мужчину столь захватило нетерпение, он буквально захлебнулся новыми впечатлениями, что не заметил, как изменился пейзаж. Густые леса с затянутыми тиной прудами, живописные озера, луга, полные цветов, и стремительные реки – все исчезло. Обернулось выжженной пустыней, где тут и там проступали обугленные черные стволы – все, что осталось от росших здесь некогда деревьев. Стало жарче – настолько, что асфальт плавился под колесами, прилипал к покрышкам. Лицо и руки обожгло, но мужчина упрямо гнал вперед. Он не остановился даже тогда, когда его кожа пошла красными пятнами, вздулась и начала облезать. Не остановился, когда в венах вскипела кровь. Мужчина не чувствовал боли, он желал лишь одного – как можно скорее увидеть город. И тут в бензобаке что-то хлопнуло, повалил дым, мотоцикл закашлялся и заглох. Мужчина бросил его и только теперь заметил, что покрышки давно расплавились, смешавшись с мягким, точно патока, асфальтом. Это было не важно. Город был совсем рядом, оставалось подняться на холм, а с него…
И мужчина пошел. Его одежда истлела, плоть обуглилась, комками повисла на костях. Его глаза забурлили в глазницах, как бурлит в кастрюле выкипающая вода. Глаза выплеснулись на щеки. Но и на это мужчина не обратил внимания. Пусть он лишился глаз, но по-прежнему видел – каким-то внутренним взором. Он верил. Он знал.
И потому, когда он – в сущности, уже скелет – поднялся на холм и глянул на город, ни единого звука не вырвалось из его груди, в которой не осталось легких. Как не было и города перед ним. Все та же выжженная до состояния стекла пустошь, остовы домов, искореженные от гари кузова машин. Здесь солнце излилось на землю, вызрело огненными грибами и убило время. И тех из жителей, кто был рядом, развеяло в ослепительном сиянии. А их отныне бесхозные тени были пригвождены к стенам, вросли в них, отпечатавшись размазанными силуэтами. Но среди жителей были и другие, кому повезло меньше. Их черепа усеяли площади и улицы, кости выгорели до угольков. Уставившись в пылающее небо пустыми глазницами, эти несчастные скалились и вопили. Так нескончаемый вопль плыл над развалинами, смешивался с едким черным дымом. А вокруг с воем проносились огненные смерчи, пожирая то немногое, что еще уцелело.
Город был мертв.
И тогда мужчина все понял. Он хотел было разрыдаться, но у него не осталось ни глаз, ни лица, а в слезных протоках ютился огонь.
И вот этот дымящийся опаленный скелет стоял и смотрел на руины дымящегося опаленного города. Мертвое таращилось на мертвое. А потом скелет развернулся и побрел обратно – туда, откуда так стремился сбежать. Нет, разумеется, он не собирался возвращаться к сестре – зачем пугать ее своим видом? Зачем нести ей столь удручающее знание? Но оставаться в мертвом городе ему тоже не хотелось. Поэтому он просто шел по дороге, не обращая внимания на то, как остекленевшая пустыня вновь сменяется лесом, прудами и озерами, и душистыми лугами с журчащими реками, и как рассеивается черный дым, ветер уносит запах гари, и как твердеет под ногами асфальт…
В какой-то момент он не выдержал и свернул с дороги, побрел через поле, касаясь костлявой рукой высокой травы и кустов, не чувствуя больше их мягкости. А затем его обугленные пальцы нашли и листья борщевика. Но он не отдернул руку, так как уже не боялся схватить ожог, не боялся выцвести и превратиться в пепел. Он знал, что сам уже стал пеплом, и все, чего ему отныне хотелось, – взобраться на холм, в последний раз заглянуть в небесную синеву, которая как море, как океан из детских воспоминаний; взглянуть на бескрайнее поле цветущего борщевика, которое как заснеженная пустыня, и, наконец, обрести покой.
Так он и сделал, присев на холме и обратив лицо ввысь.
Он подумал о сестре. Ему захотелось обнять ее, сказать, что она права – мертвецы не могут говорить, только вопят в нескончаемой агонии, так что молчание порой не так уж и плохо. Но тут подул ветер, и кости его рассыпались в пыль. Череп же свалился в душистую траву, да так там и остался.
Таков сон мальчика.
Девочке же, которая засыпает чуть позже брата, тоже снятся сны.
И в этих снах она осталась совершенно одна. Пускай и взрослая девушка – плясунья-хохотушка, лесная нимфа – она испугалась жуткого рева, кинулась прочь. Она прокралась меж кустов смородины, юркнула в березовую рощу и разыскала там давно оставленную лисью нору. Забравшись внутрь, свернулась калачиком.
Девушка понимала, что грозный рев этот – вовсе не какое-нибудь чудище. Да и откуда им тут, собственно, взяться, чудищам этим? Нет! Грозный рев, который она услыхала, – это перемены. А перемены пугали ее, потому что, пусть и не зная наверняка, она догадывалась, что именно перемены убили время, сделали летний день бесконечным. Не сразу, но она научилась жить с этим. Научилась ценить красоту застывшего мига – словно бабочку в янтаре, пускай неживую, но все равно прекрасную. В конце концов, чем они сами, как и все окружающее, отличаются от этой бабочки?
Если так рассудить, мир тоже застыл в янтаре из солнечного света и летней жары – мертвый мир и мертвое время. Никакого «вчера», никакого «сегодня» и уж тем более никакого «завтра». Звучит ужасно, но стоит ли тогда слушать? Ведь если не допытываться ответов, не требовать, чтоб черепа заговорили, не искать утраченные сны, которые в голой сути своей кошмары минувшего, то… Остается красота.
Этим и жила девушка, сочиняя различные небылицы, танцуя, смеясь, наслаждаясь обществом жуков-пауков, да той же собачьей головы, потявкивавшей из канавы за оградой. И так до тех пор, пока не раздался ужасный рев. Поэтому девушка спряталась, затаилась и уснула. Ей снилась она сама же, снился ее брат. Во сне этом они были еще детьми, шли куда-то через высокие ядовитые столбы и мясистые листья, отмахивались от назойливых слепней, болтали с коровьей черепушкой. А после был холм, была шелковистая трава под ногами и высокий старый тополь, который что-то шептал – устало шептал, как старик. Это было чудно, пусть подобные сны ей снились и раньше: путь через борщевик, старый тополь на холме, те слова, что он говорил – что-то важное, но что именно – девушка не запомнила. И теперь опять не запомнила, лишь открыла глаза, сладко потянулась, зевнула и осторожно выбралась из норы. Вокруг было тихо, солнечно-ярко, в небе порхали-кружили пушинки, – все как всегда.
Девушка побежала к дому, хотела найти брата. Но в доме того не оказалось. И нигде не оказалось. И мотоцикла его тоже не было.
Тогда-то девушка и поняла, что за звук она слышала – перемены: брат наконец починил свой ржавый драндулет, бросил ее одну. Где-то здесь она обнаружила и его записку, которую проглядела в первый раз. Несколько скупых слов. Брат уехал в город, надеялся отыскать ответы или родителей, или хоть кого-то…
Вранье! Он просто сбежал.
И, скомкав записку, девушка замерла на пороге, вздохнула и, помедлив, шагнула в теперь уже по-настоящему пустой дом. Она потерялась в его комнатах, заблудилась среди пыли старинных книг со сказками и выцветших фотографий с незнакомцами. Она запуталась в паутине ничейных вещей. Ее впервые испугало молчание дома – немота заброшенной могилы, безмолвие смерти. Ей стало трудно дышать от нахлынувшего прошлого – затхлого, как воздух на чердаке, неизбежного, как осиные гнезда под крышей. Девушка почувствовала, что отравилась прошлым, заболела – настолько ей сдавило грудь. И тогда она бросилась прочь из дома – в кипящее золото летнего дня, в июльский зной, навстречу тополиному пуху, стрекоту жучков и голосам листвы. В груди свербело: что-то будто бы извивалось там, внутри, рядом с сердцем. И девушка побежала еще дальше – от дома, от двора, ничего не разбирая перед собой, еще и еще. Пока не запыхалась вовсе, не споткнулась и не упала.
А когда поднялась, не сразу осознала, где именно очутилась. Борщевики сочились соком, благоухали травяной сладостью, манили своими мясистыми, в желтых прожилках, листьями, предлагали свои ядовитые объятия. А там, сразу за ними, возвышался одинокий холм из ее полузабытых снов.
И она неспешно пошла к нему, пересекла поле, взошла на холм и огляделась. Безоблачное синее небо, палящее солнце и безграничная белизна маленьких белых цветов. А у ног ее лежал обугленный человеческий череп. Девушка присела, ласково погладила череп, вздохнула. Смахнув слезу, она легла на спину, закрыла глаза и попыталась уснуть. Ей хотелось вернуться в прошлое – в свое детство, которое она регулярно видела во снах. Ей хотелось сидеть в тени большого старого тополя, обнимать своего мирно спящего брата, думать о чем-то… А еще лучше ни о чем не думать. Просто быть…
Быть…
Так девушка и лежала, когда ее грудная клетка вдруг раскрылась, и из алого нутра возник первый росток, увенчанный одним-единственным зеленым листком. Росток этот уверенно потянулся к солнцу, зачерствел корой, распростер свои ветви и сделался высоким тополем. Он впитал в себя тело девушки, нежно обнял корнями обугленный череп, тяжело вздохнул и погрузился в дрему.
И грезятся ему с тех пор голоса – несущиеся над крышами опустевших домов, над пожухлой травой, над густыми лесами, над полем борщевиков, – задорные, звонкие, будто взмывающие ввысь, к солнцу, в облака из пуха.
Но то голоса отнюдь не детей.
То голоса полуденной пыли.
© Aldebaran 2023.
© Долматович Евгений.