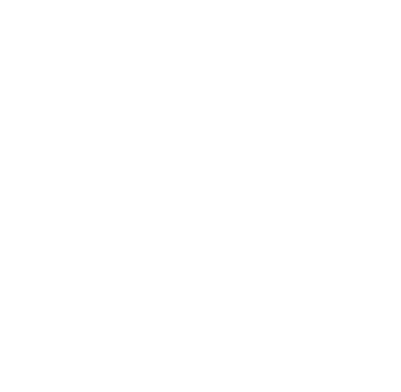«Я не связывала жизнь со стихами. Я связала из них жизнь»: интервью со Стефанией Даниловой
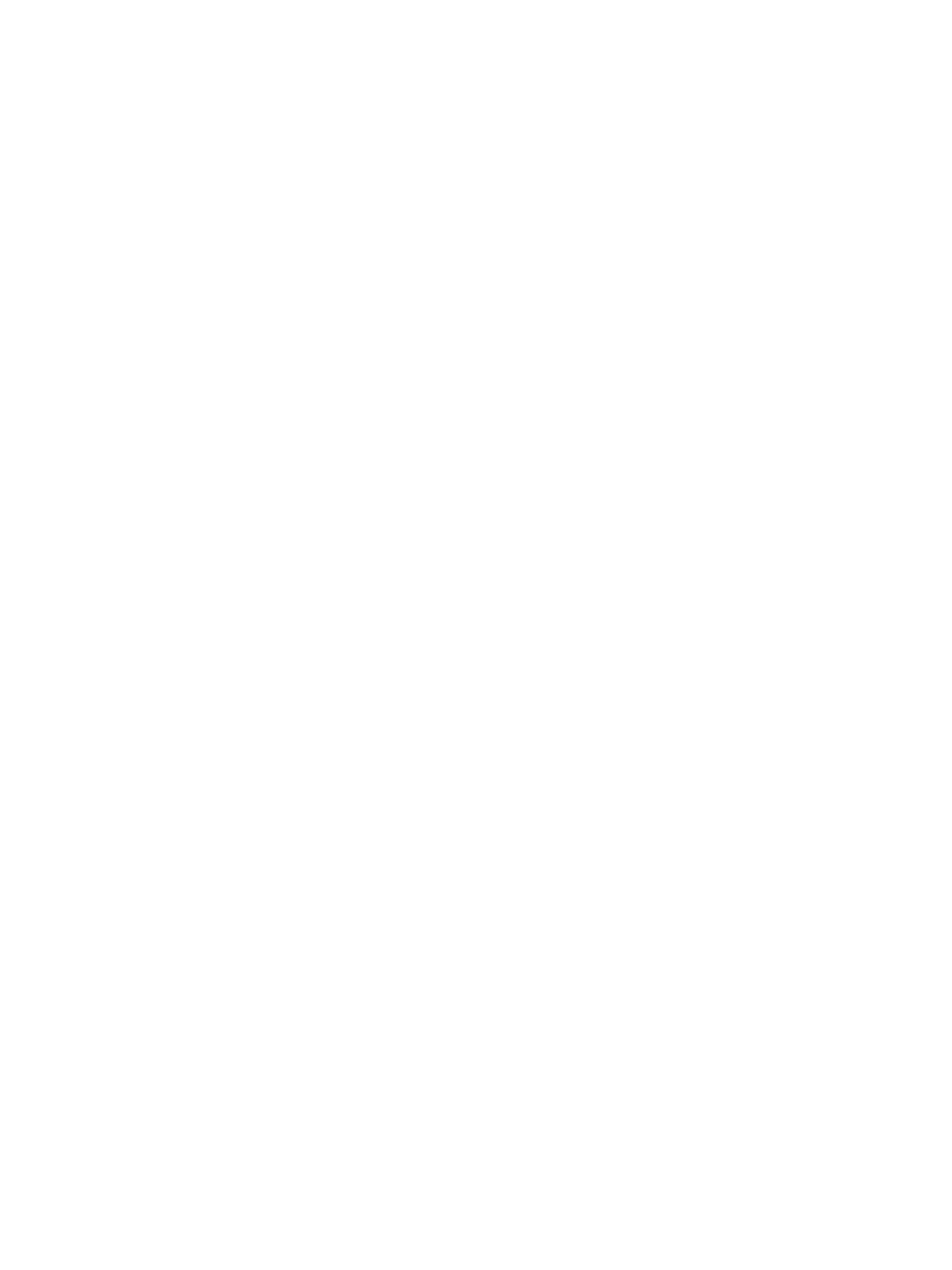
16 августа праздновал день рождения один из самых известных широкому читателю поэтов, основатель продюсерского центра всемпоэзии.рф, лауреат премий имени А.Д. Дементьева и М.Ю. Лермонтова, автор 16 книг (со стихами и прозой) – Стефания Данилова (в замужестве Конькова).
Стефания Антоновна преподаёт литературное мастерство в Российском университете дружбы народов, печатается в толстых литературных журналах и помогает неизвестным авторам обрести читателя.
Редакция журнала «Альдебаран» побеседовала со Стефанией о детстве, творческом пути, самопознающей силе слова, тенденциях в современном литературном процессе и взаимодействии поэта с читательской аудиторией.
Обычно состоявшиеся поэты говорят, что стихи пришли к ним легко и естественно ещё в раннем возрасте. Мне кажется, всегда есть импульс, какое-то поворотное событие, когда мы осознаём себя способными к творчеству или вдруг начинаем верить в себя как поэта, а потом договариваемся с собой с этого пути не сворачивать. Во сколько примерно лет ты начала писать стихи, как это было?
Мне кажется, мы не всегда можем быть точны в понятиях относительно себя. Говоря, что мы «начали писать в 4 года», откуда мы можем быть уверенными, что пишем именно стихи? Вот «осознала себя способной к творчеству» я точно во времена, когда ходила пешком под стол, и творчество было для меня во всём: из случайно проросших в рассохшемся балконном ящике семечек я растила волшебный сад, из конструктора строила дом вместо монстра, предлагаемого в инструкции. И, конечно, слова. Они завораживали, звали с ними в игру. Я не просто связала с ними свою жизнь – я связала из них свою жизнь. Детство чаще всего – слепое пятно в памяти, но есть вспышка: поезд в Крым, за окном кардиограмма лесов, я отчаянно пытаюсь перевести это на человеческий язык в блокнот, мой первый блокнот. На нём был изображен букет полевых цветов. Помню ощущение: я не пишу, а записываю, перевожу, транслирую. Когда мне нужно было решить любой сложный момент в отношениях с людьми, будь то первые чувства или несговорчивая алгебраичка, грозящая двойкой, стихами всё решалось как по волшебству. Это и были мои «сим-салабим-сезам», «мутабор» и «абракадабра» одновременно.
Может быть, случались переломные события, когда поэзия вдруг уступала реальной жизни? Хотелось ли когда-нибудь отказаться и заняться чем-то другим?
Когда я пробовала учить китайский, осознала, что язык этот максимально близок к структуре поэзии, и что он так же требует всей жизни безоглядно и безоговорочно. Его стоит внедрять в себя с детства. И на примере этих никак не складывающихся в структуру (у меня) линий и тонов я осознала важность вложенного времени. В моём случае поэзия не может уступить реальной жизни, потому что она – тот выбор, который не стои́т, выбор без выбора. С ней сравнивается всё, всё интегрируется в неё и взаимодействует с ней. Она – как валиде-султан в Топкапы. Даже если на троне султан. Если искусство поэзии требует слов, то есть и ремесло поэзии – то есть наш быт, готовка, поездки туда-сюда. И это ремесло поэзии требует нестандартной оптики: специи на глаз, каждый раз новой версии маршрута из одних и тех же пунктов А в Б. Всё это – тоже от поэзии-матушки. Я всегда хочу заниматься чем-то другим и третьим, но оно будет лишь гранью от поэзии. Так чувствую.
Расскажи о своей семье. Как относились к тому, что ты пишешь, в начале пути и как сейчас?
Ни у кого из членов моей родительской семьи я не могу спросить сейчас, что они думают об этом. Однако верю, что мой отец-поэт, Антон Викторович Захаров, светлеет взглядом. С Издательством СТиХИ мы будем выпускать книгу его избранной лирики. Так сложилось, что мы всю жизнь не общались, не по его вине. «Его рано ушли» – формулировка именно такая. Сначала из моей, потом из его собственной жизни. Муж читал мои стихи за много лет до знакомства, сейчас изменилось лишь то, что он читает их самым первым, а нередко является их отцом. Но история про то, что над моим первым творчеством смеялись, а потом было «мы всегда в тебя верили», меня миновала.
Ты помимо того, что поэт, сочетаешь в себе и умение доносить стихи до читателя. В наш век клипового мышления, когда восприятие людей с чтения переключилось на зрительный способ поглощения информации, ты смогла так вести паблик Вк со стихами, что в нём подписчиков больше, чем во всех вместе взятых журнальных «толстяках». Раскрой секрет.
«Кто в молодости не был радикалом, у того нет сердца», – гласит пословица. А кто в 17 не мнит себя исключительным? Сейчас я даже не обратила бы внимания на тех мальчиков, что тогда разбивали мне сердце и вдохновляли. Но и сколько лет прошло. Даже состав крови за семь лет меняется полностью. Пять лет я посвятила «передвижному Литинституту» – училась у мастеров, ездила по городам. Естественно, поэтическая оптика поменялась в корне. Однако неискоренимы люди, которые судят человека по его первым шагам и ранним стихам. У меня были стихи, легко собирающие по 5000 лайков. Лайк – это секунда жизни, мимолетная очарованность. Сегодня я знаю, что мои книги для кого-то настольные, или потрёпаны от постоянного ношения в сумке с собой, а это куда более ценная валюта внимания и приверженности. Тем не менее, паблик жив. Я удалила из него все стихи, в которые сама больше не верю. Важно понимать, что паблик – это не про то, какой ты поэт. Это про то, как ты харизматичен, интересен массам, насколько привлекателен внешне. Любые стихи с моей красивой фотографией или котом набирают море лайков. Всё это есть. Просто это давно не является для меня критерием хоть какой-то значимости. Ведь пословица, упомянутая в начале, заканчивается так: «…кто в зрелости не стал консерватором, у того нет ума».
Вот мы заговорили об известности. Сейчас такое странное время, что поэтов хороших много, но читателей у них практически нет. У «громкой» лирики слэмов и сетевых поэтов в целом – аудитория растёт. Журнальная поэзия только силится перестать быть элитарной, понятной широким читателем. Ты, как преподаватель-исследователь этого феномена, при Университете дружбы народов, можешь предположить, что будет дальше с журнальной поэзией? Тихое её течение так и останется тихим, или все же настанут времена, когда читатель обернётся в эту сторону?
Все зависит от качества аудитории. Подвыпившие зрители одного барного слэма, которые наутро забудут, в каком заведении пили, не говоря уж о смысле услышанных строк, или один тихий учёный, чьи работы «взлетят»? Массовость и качество – как носорог и стрекоза, разные животные. Никто не хуже другого, но объединить их не получится. Исключение, пожалуй, только котики, их любят абсолютно все, при этом они «и строить, и жить помогают». Но на то и есть правила, чтобы были в них исключения. Я верю в поколение Альфа, за морокой и пеленой игры в спрунки, или во что они там играют, скрывается их очаровательное взросление. Это будут люди, быстрее понимающие, что к чему. Будут новые ах и мкр, просто поэзией это уже называть не станут, а назовут своими именами: арт-терапия, текстовая психология. Журналы станут новым трендом, и будет риск скатиться в массовость уже им. Есть ловушка тренда, когда он начинает диктовать правила игры. Очень важно за этими трендами и брендами не потерять саму суть поэзии, её настоящее имя.
Почему вообще ты решила писать про поэзию в масс-медиа? Что удалось открыть? Может быть, есть какие-то закономерности, или маркёры, ведущие к популярности, по которым читатель и находит своего поэта?
В 2011 году, когда мы, «десятники», вышли на свет, там уже были свои звёзды (сейчас их объявили воландемортами, поэтому мы не будем их называть). От них фанатели, на них молились. Притом уровень поэзии у них был очень разный: от яркой вспышки до кромешной тьмы. Мне стало интересно понять, почему так. Все зависит от целей читателя, а они разные. Кому-то нужны быстрые слёзы и смех, кому-то эскапизм в иной мир, кому-то глубокий катарсис. Это всегда путь из 10 шагов друг к другу, где и читатель, и поэт делают свои 5. Аудитория Анны Егоян и аудитория Издательства СТиХИ существуют в разных мирах. Они никогда не пересекутся. Если читатель воспитан так, что ставит в один ряд Понкина с Пушкиным, это не проблема Понкина (и уж тем более не проблема Пушкина!). Если есть спрос, предложение не заставит себя ждать. Но если поэт не заинтересован в человеческом значимом другом, если его главный читатель – Бог, как у Умберто Эко, то, по крайней мере, его поэзия очищена от ожиданий и ловушек тренда.
И ещё важно понимать, что поэт живой – это нерафинированная история. Он хочет вылечить зубы, есть не в забегаловке, поехать на Байкал, он будет подаваться на премии, где-то прогибаться под мир, а где-то прогибать его под себя, он непредсказуем. И он может, начав путь с сетевой звёздочки, вырасти в реального поэта. Если поставит себе то целью, обчитается действительно качественной поэзии как предшественников, так и современников, и будет заниматься не литпроцессом, а словом.
Как, по твоим наблюдениям, сменились предпочтения читателя сетевой поэзии за последние три года? Есть ли подвижки в сторону сложного поэтического высказывания?
Все те же дешевые мотивационные тренинги (проснись и пой, встань и свети), дауншифтинг (сбежать бы в деревню, к тетке, в глушь, в Саратов, в Сызрань) и эскапизм в сказки (Иван-Царевич женат на Кушисакэ-онна, и никому от этого не жмёт). Сетевики предпочитают выходить в оффлайн и устраивать что-то вроде стендапа, к счастью, они это уже сами таковым и называют, все более отходя от сакрального понятия «поэзия». И нарочитая безграмотность. Об этом даже есть исследование одного социолога. Чтобы имитировать близость к народу и интимизацию общения, эти авторы специально нарушают в блогах правила пунктуации, орфографии и здравого смысла. При этом из некоторых историй видно, что писать «нормально» они умеют, то есть это продуманный ход на полях публичных коммуникаций.
А можешь поэтам (не обязательно молодым), но пока неизвестным, рассказать секрет успеха? Как стать хорошим автором, куда идти за знаниями помимо Литинститута и филфака?
Любой «секрет» – это безотказно работающий маркетинговый ход, отвлекающий внимание от необходимости серьёзной работы. Секретный ингредиент бабушкиных блинчиков в том, что бабушка их делала ещё девочковыми своими пальчиками, где-то полвека, и это такой опыт, отточенный до мелочей, ну и плюс это твоя любимая бабушка, было бы странно, если бы у неё не было вкуснее всего.
Хороший автор N может быть сколь угодно хорошим, но с ним не будут работать журналы и порталы, если он отклоняется от собственного курса. Я бы сказала, что, чтобы быть хорошим автором, нужно сначала стать цельным человеком. Не обязательно хорошим, тут кому как больше нравится (есть же и привлекательные подонки), но цельным. То есть, рассказывать собой одну историю. Историю интересную, за которой хочется следить и участником которой стать. Пока ты живой, будут обращать внимание далеко не только на твои тексты. Это важно понимать. За знаниями (а поэзия – это знание сакральное) я предложила бы идти в чащу леса, в глушь. Вот буквально встать и идти, эти 10000 шагов в день – не просто залог здорового сердца, но прекрасная медитация для творческого разума. В инфошуме важно научиться быть хорошим транслятором. Слышать то, что говорят оттуда. Что проводят через тебя. И когда ты постоянно среди людей, в гуле чужих мнений и ожиданий, на людском базаре – это довольно сложная задача. Благо, можно включить музыку или белый шум в наушниках, или выехать в лес. Всё ещё можно.
А вот глядя на себя в начале поэтического пути, что бы сегодняшняя ты себе той посоветовала?
Воспринимать себя всерьёз. Потому что кроме тебя самого никто этого не сделает. Я всегда очень «лайтово» сужу начинающих поэтов. Никто не знает, какой уровень они выдадут через год, два, пять лет. Какой опыт преобразит их. Вот если человек десятилетие мелет одну и ту же воду в ступе, тут никакой пощады. Время – наш единственный невосполнимый ресурс и преимущество перед любым классиком. Это наша жизнь. Не то, что с нами случилось, а то, что с нами ещё случится.
Интересно ещё вот что. Вот ты смотришь на себя юную, ты молодой поэт. Какие метаморфозы претерпела твоя поэтика, как оптика изменилась? Из чего сейчас растут стихи и из чего тогда?
Если прежде в фокусе внимания была попытка разобраться в себе (спойлер: у меня это получилось с чем угодно, только не с помощью стихов, но это тоже был путь), то сейчас это – топос. Место. В моём видении мира именно оно определяет всё остальное взаимодействие. Встреча с одними и теми же людьми в рамках крымского путешествия, заснеженных московских поэтических фестивалей либо салона автомобиля, несущегося по смеркающейся дороге Тверь-Москва – это разные истории. Место определяет всё, от декораций до тона разговора, не говоря уже о тематиках. Моя книга от АСТ называется «Под небом русского цвета», потому что там про разные населённые пункты России, от городов до гор, где что-то случилось со мной или не со мной. Я легко могу «подцепиться», как к вай-фаю, к эгрегору места и услышать его историю. Если оно, конечно, мне доверяет. Так, есть места, где мне не пишется совершенно, а есть те, где буквально шандарахает и искрит, потому что именно мне это место, стены или поле, море или озеро, хотят передать что-то важное.
В завершение интервью журнал «Альдебаран» публикует подборку стихотворений Стефании Даниловой.
***
Мы вчера же с тобой так сыграны были, были.
Мы вчера же с тобой дуэтом так пели, пели.
То ли в клавиши нам попало немного пыли.
То ли связки подобной вольности не стерпели.
Мы играли с тобой в четыре руки, как боги,
Наши русые голоса заплетались в косу.
Вместо струн были приснившиеся дороги.
Вместо нот – никем не заданные вопросы.
Не поётся в стенах филармонии «тили-тили».
Не мензура в гитаре уже, а дыра сквозная.
Мы когда-то и с кем-то... Кажется... Жили. Были.
Ну а петь и играть – и слов-то таких не знаю.
***
Мысль обернется материей, слово – ложью,
Очи горе возведёт от смартфона Тютчев.
Столько осадков от найденных снова ложек,
Впору упаковать их обратно в тучи.
Ложе, рубаху и хлеб преломи с друзьями,
Ну, раздели, тут дело совсем не в хлебе.
С неба седьмого скажи: ты в помойной яме.
В яме сидишь – пусть думают, что на небе.
Раньше мечтали вырасти космонавтом,
Розы растить во мгле орбитальных станций...
Стать бы любым, кто не деятель и не автор.
Да и не текст, без риска интерпретаций.
Мысль обернётся материей, ложью слово.
Все эмбрионы потенциально трупы.
Стать бы амёбой. Туфелькой. Безголово
Плыть в никуда, не думая, молча, тупо.
Чтоб ничего не рано или не поздно.
Движутся псевдоподии ровно, плавно.
Там, наверху, лучи, корабли и звёзды.
Только амёба не знает о том, и славно.
***
Исподлобья взгляд, неплатежеспособный вид,
Облака, не пропускающие озон,
Знать кого-то с изнанки – больше любой любви,
Любишь город – люби и копоть его промзон.
О, не для слабонервных – прогулки в таких местах.
В Эрмитажи с Исаакием ходят кто поумней.
Мне всегда было интереснее долистать
Книгу после обложки, чтобы понять о ней.
Не в Кунсткамере прячется самый ужасный монстр.
До него на общественном транспорте час пути.
Вместо ярких магнитиков про разведённый мост
Я пройдусь по тому, который не развести.
На окраинах нет кисейных белых ночей.
Ночи разнорабочи, водочны и смуглы.
Питер там называют – Петя, и он ничей,
Матерится, бухает, не сглаживает углы.
Он закурит как паровоз, что везёт в Москву
Вот таких же, как я, не крикнет: остановись;
Горько сплюнет сквозь пломбы: «я без тебя проживу».
А потом пошлет на три буквы такую жизнь.
***
Далек Назарет, но вот СНТ Назарьево,
Над тем и другим восходит святое зарево
О том, что потом родится стихотворение,
На Марсовом снова запахнет густой сиренью,
Нолик останется, крестик сорвётся с листика,
Возлюбленная, ненавидимая холистика.
Электричково – электричкам, ослу – ослово,
В начале было не слово, совсем не слово.
Была тишина выше неба и глубже скважин
Близ населённого пункта, что был не важен.
В Назарьево весть благая почти такая же:
Здесь и трехлапый кот,
И топаз растаявший,
И лес, у которого нет ни конца ни края,
И я, живу, наконец-то не выбирая.
***
Ремонтируют пруд. И меня ремонтируют тоже.
Имя мне котлован. Океаном не стану, похоже.
Стану местным хранилищем списков покупок и сплетен,
Хлебных крошек и взгляда Того, Кто Всегда Безответен –
Так зовёт его каждый упавший листом неудачник.
Все ответы вот тут, потрудись дочитать свой задачник.
Ремонтируют пруд. Он зальется сентябрьской водицей,
Словно школьница – смехом. Я буду ей очень гордиться.
Хорошо, что она не моя, не получит в наследство
Молоком с коммунальной плиты убежавшее детство.
Тряпкой вытереть – кто, скажите, сочёл бы за труд?
...ремонтируют пруд.
Обещают в четвёртом квартале. Надеюсь, не врут.
***
Не медь звенящая, а волевой вольфрам.
Все сплетни спят по барам и дворам.
Приеду в гости кости перемыть
Всем, кто не понимает слов прямых.
Свинину начинять: чеснок, морковь.
Стихов насочинять: любовь и кровь.
Букинистический ларек из стеллажа,
Кот мякнул мимо нот и налажал.
Как хорошо, что мы не зеркала,
Что отраженный мир спалят дотла.
Ты волевой вольфрам, ты волшебство,
Я медный грош, не стоивший того.
Стефания Антоновна преподаёт литературное мастерство в Российском университете дружбы народов, печатается в толстых литературных журналах и помогает неизвестным авторам обрести читателя.
Редакция журнала «Альдебаран» побеседовала со Стефанией о детстве, творческом пути, самопознающей силе слова, тенденциях в современном литературном процессе и взаимодействии поэта с читательской аудиторией.
Обычно состоявшиеся поэты говорят, что стихи пришли к ним легко и естественно ещё в раннем возрасте. Мне кажется, всегда есть импульс, какое-то поворотное событие, когда мы осознаём себя способными к творчеству или вдруг начинаем верить в себя как поэта, а потом договариваемся с собой с этого пути не сворачивать. Во сколько примерно лет ты начала писать стихи, как это было?
Мне кажется, мы не всегда можем быть точны в понятиях относительно себя. Говоря, что мы «начали писать в 4 года», откуда мы можем быть уверенными, что пишем именно стихи? Вот «осознала себя способной к творчеству» я точно во времена, когда ходила пешком под стол, и творчество было для меня во всём: из случайно проросших в рассохшемся балконном ящике семечек я растила волшебный сад, из конструктора строила дом вместо монстра, предлагаемого в инструкции. И, конечно, слова. Они завораживали, звали с ними в игру. Я не просто связала с ними свою жизнь – я связала из них свою жизнь. Детство чаще всего – слепое пятно в памяти, но есть вспышка: поезд в Крым, за окном кардиограмма лесов, я отчаянно пытаюсь перевести это на человеческий язык в блокнот, мой первый блокнот. На нём был изображен букет полевых цветов. Помню ощущение: я не пишу, а записываю, перевожу, транслирую. Когда мне нужно было решить любой сложный момент в отношениях с людьми, будь то первые чувства или несговорчивая алгебраичка, грозящая двойкой, стихами всё решалось как по волшебству. Это и были мои «сим-салабим-сезам», «мутабор» и «абракадабра» одновременно.
Может быть, случались переломные события, когда поэзия вдруг уступала реальной жизни? Хотелось ли когда-нибудь отказаться и заняться чем-то другим?
Когда я пробовала учить китайский, осознала, что язык этот максимально близок к структуре поэзии, и что он так же требует всей жизни безоглядно и безоговорочно. Его стоит внедрять в себя с детства. И на примере этих никак не складывающихся в структуру (у меня) линий и тонов я осознала важность вложенного времени. В моём случае поэзия не может уступить реальной жизни, потому что она – тот выбор, который не стои́т, выбор без выбора. С ней сравнивается всё, всё интегрируется в неё и взаимодействует с ней. Она – как валиде-султан в Топкапы. Даже если на троне султан. Если искусство поэзии требует слов, то есть и ремесло поэзии – то есть наш быт, готовка, поездки туда-сюда. И это ремесло поэзии требует нестандартной оптики: специи на глаз, каждый раз новой версии маршрута из одних и тех же пунктов А в Б. Всё это – тоже от поэзии-матушки. Я всегда хочу заниматься чем-то другим и третьим, но оно будет лишь гранью от поэзии. Так чувствую.
Расскажи о своей семье. Как относились к тому, что ты пишешь, в начале пути и как сейчас?
Ни у кого из членов моей родительской семьи я не могу спросить сейчас, что они думают об этом. Однако верю, что мой отец-поэт, Антон Викторович Захаров, светлеет взглядом. С Издательством СТиХИ мы будем выпускать книгу его избранной лирики. Так сложилось, что мы всю жизнь не общались, не по его вине. «Его рано ушли» – формулировка именно такая. Сначала из моей, потом из его собственной жизни. Муж читал мои стихи за много лет до знакомства, сейчас изменилось лишь то, что он читает их самым первым, а нередко является их отцом. Но история про то, что над моим первым творчеством смеялись, а потом было «мы всегда в тебя верили», меня миновала.
Ты помимо того, что поэт, сочетаешь в себе и умение доносить стихи до читателя. В наш век клипового мышления, когда восприятие людей с чтения переключилось на зрительный способ поглощения информации, ты смогла так вести паблик Вк со стихами, что в нём подписчиков больше, чем во всех вместе взятых журнальных «толстяках». Раскрой секрет.
«Кто в молодости не был радикалом, у того нет сердца», – гласит пословица. А кто в 17 не мнит себя исключительным? Сейчас я даже не обратила бы внимания на тех мальчиков, что тогда разбивали мне сердце и вдохновляли. Но и сколько лет прошло. Даже состав крови за семь лет меняется полностью. Пять лет я посвятила «передвижному Литинституту» – училась у мастеров, ездила по городам. Естественно, поэтическая оптика поменялась в корне. Однако неискоренимы люди, которые судят человека по его первым шагам и ранним стихам. У меня были стихи, легко собирающие по 5000 лайков. Лайк – это секунда жизни, мимолетная очарованность. Сегодня я знаю, что мои книги для кого-то настольные, или потрёпаны от постоянного ношения в сумке с собой, а это куда более ценная валюта внимания и приверженности. Тем не менее, паблик жив. Я удалила из него все стихи, в которые сама больше не верю. Важно понимать, что паблик – это не про то, какой ты поэт. Это про то, как ты харизматичен, интересен массам, насколько привлекателен внешне. Любые стихи с моей красивой фотографией или котом набирают море лайков. Всё это есть. Просто это давно не является для меня критерием хоть какой-то значимости. Ведь пословица, упомянутая в начале, заканчивается так: «…кто в зрелости не стал консерватором, у того нет ума».
Вот мы заговорили об известности. Сейчас такое странное время, что поэтов хороших много, но читателей у них практически нет. У «громкой» лирики слэмов и сетевых поэтов в целом – аудитория растёт. Журнальная поэзия только силится перестать быть элитарной, понятной широким читателем. Ты, как преподаватель-исследователь этого феномена, при Университете дружбы народов, можешь предположить, что будет дальше с журнальной поэзией? Тихое её течение так и останется тихим, или все же настанут времена, когда читатель обернётся в эту сторону?
Все зависит от качества аудитории. Подвыпившие зрители одного барного слэма, которые наутро забудут, в каком заведении пили, не говоря уж о смысле услышанных строк, или один тихий учёный, чьи работы «взлетят»? Массовость и качество – как носорог и стрекоза, разные животные. Никто не хуже другого, но объединить их не получится. Исключение, пожалуй, только котики, их любят абсолютно все, при этом они «и строить, и жить помогают». Но на то и есть правила, чтобы были в них исключения. Я верю в поколение Альфа, за морокой и пеленой игры в спрунки, или во что они там играют, скрывается их очаровательное взросление. Это будут люди, быстрее понимающие, что к чему. Будут новые ах и мкр, просто поэзией это уже называть не станут, а назовут своими именами: арт-терапия, текстовая психология. Журналы станут новым трендом, и будет риск скатиться в массовость уже им. Есть ловушка тренда, когда он начинает диктовать правила игры. Очень важно за этими трендами и брендами не потерять саму суть поэзии, её настоящее имя.
Почему вообще ты решила писать про поэзию в масс-медиа? Что удалось открыть? Может быть, есть какие-то закономерности, или маркёры, ведущие к популярности, по которым читатель и находит своего поэта?
В 2011 году, когда мы, «десятники», вышли на свет, там уже были свои звёзды (сейчас их объявили воландемортами, поэтому мы не будем их называть). От них фанатели, на них молились. Притом уровень поэзии у них был очень разный: от яркой вспышки до кромешной тьмы. Мне стало интересно понять, почему так. Все зависит от целей читателя, а они разные. Кому-то нужны быстрые слёзы и смех, кому-то эскапизм в иной мир, кому-то глубокий катарсис. Это всегда путь из 10 шагов друг к другу, где и читатель, и поэт делают свои 5. Аудитория Анны Егоян и аудитория Издательства СТиХИ существуют в разных мирах. Они никогда не пересекутся. Если читатель воспитан так, что ставит в один ряд Понкина с Пушкиным, это не проблема Понкина (и уж тем более не проблема Пушкина!). Если есть спрос, предложение не заставит себя ждать. Но если поэт не заинтересован в человеческом значимом другом, если его главный читатель – Бог, как у Умберто Эко, то, по крайней мере, его поэзия очищена от ожиданий и ловушек тренда.
И ещё важно понимать, что поэт живой – это нерафинированная история. Он хочет вылечить зубы, есть не в забегаловке, поехать на Байкал, он будет подаваться на премии, где-то прогибаться под мир, а где-то прогибать его под себя, он непредсказуем. И он может, начав путь с сетевой звёздочки, вырасти в реального поэта. Если поставит себе то целью, обчитается действительно качественной поэзии как предшественников, так и современников, и будет заниматься не литпроцессом, а словом.
Как, по твоим наблюдениям, сменились предпочтения читателя сетевой поэзии за последние три года? Есть ли подвижки в сторону сложного поэтического высказывания?
Все те же дешевые мотивационные тренинги (проснись и пой, встань и свети), дауншифтинг (сбежать бы в деревню, к тетке, в глушь, в Саратов, в Сызрань) и эскапизм в сказки (Иван-Царевич женат на Кушисакэ-онна, и никому от этого не жмёт). Сетевики предпочитают выходить в оффлайн и устраивать что-то вроде стендапа, к счастью, они это уже сами таковым и называют, все более отходя от сакрального понятия «поэзия». И нарочитая безграмотность. Об этом даже есть исследование одного социолога. Чтобы имитировать близость к народу и интимизацию общения, эти авторы специально нарушают в блогах правила пунктуации, орфографии и здравого смысла. При этом из некоторых историй видно, что писать «нормально» они умеют, то есть это продуманный ход на полях публичных коммуникаций.
А можешь поэтам (не обязательно молодым), но пока неизвестным, рассказать секрет успеха? Как стать хорошим автором, куда идти за знаниями помимо Литинститута и филфака?
Любой «секрет» – это безотказно работающий маркетинговый ход, отвлекающий внимание от необходимости серьёзной работы. Секретный ингредиент бабушкиных блинчиков в том, что бабушка их делала ещё девочковыми своими пальчиками, где-то полвека, и это такой опыт, отточенный до мелочей, ну и плюс это твоя любимая бабушка, было бы странно, если бы у неё не было вкуснее всего.
Хороший автор N может быть сколь угодно хорошим, но с ним не будут работать журналы и порталы, если он отклоняется от собственного курса. Я бы сказала, что, чтобы быть хорошим автором, нужно сначала стать цельным человеком. Не обязательно хорошим, тут кому как больше нравится (есть же и привлекательные подонки), но цельным. То есть, рассказывать собой одну историю. Историю интересную, за которой хочется следить и участником которой стать. Пока ты живой, будут обращать внимание далеко не только на твои тексты. Это важно понимать. За знаниями (а поэзия – это знание сакральное) я предложила бы идти в чащу леса, в глушь. Вот буквально встать и идти, эти 10000 шагов в день – не просто залог здорового сердца, но прекрасная медитация для творческого разума. В инфошуме важно научиться быть хорошим транслятором. Слышать то, что говорят оттуда. Что проводят через тебя. И когда ты постоянно среди людей, в гуле чужих мнений и ожиданий, на людском базаре – это довольно сложная задача. Благо, можно включить музыку или белый шум в наушниках, или выехать в лес. Всё ещё можно.
А вот глядя на себя в начале поэтического пути, что бы сегодняшняя ты себе той посоветовала?
Воспринимать себя всерьёз. Потому что кроме тебя самого никто этого не сделает. Я всегда очень «лайтово» сужу начинающих поэтов. Никто не знает, какой уровень они выдадут через год, два, пять лет. Какой опыт преобразит их. Вот если человек десятилетие мелет одну и ту же воду в ступе, тут никакой пощады. Время – наш единственный невосполнимый ресурс и преимущество перед любым классиком. Это наша жизнь. Не то, что с нами случилось, а то, что с нами ещё случится.
Интересно ещё вот что. Вот ты смотришь на себя юную, ты молодой поэт. Какие метаморфозы претерпела твоя поэтика, как оптика изменилась? Из чего сейчас растут стихи и из чего тогда?
Если прежде в фокусе внимания была попытка разобраться в себе (спойлер: у меня это получилось с чем угодно, только не с помощью стихов, но это тоже был путь), то сейчас это – топос. Место. В моём видении мира именно оно определяет всё остальное взаимодействие. Встреча с одними и теми же людьми в рамках крымского путешествия, заснеженных московских поэтических фестивалей либо салона автомобиля, несущегося по смеркающейся дороге Тверь-Москва – это разные истории. Место определяет всё, от декораций до тона разговора, не говоря уже о тематиках. Моя книга от АСТ называется «Под небом русского цвета», потому что там про разные населённые пункты России, от городов до гор, где что-то случилось со мной или не со мной. Я легко могу «подцепиться», как к вай-фаю, к эгрегору места и услышать его историю. Если оно, конечно, мне доверяет. Так, есть места, где мне не пишется совершенно, а есть те, где буквально шандарахает и искрит, потому что именно мне это место, стены или поле, море или озеро, хотят передать что-то важное.
В завершение интервью журнал «Альдебаран» публикует подборку стихотворений Стефании Даниловой.
***
Мы вчера же с тобой так сыграны были, были.
Мы вчера же с тобой дуэтом так пели, пели.
То ли в клавиши нам попало немного пыли.
То ли связки подобной вольности не стерпели.
Мы играли с тобой в четыре руки, как боги,
Наши русые голоса заплетались в косу.
Вместо струн были приснившиеся дороги.
Вместо нот – никем не заданные вопросы.
Не поётся в стенах филармонии «тили-тили».
Не мензура в гитаре уже, а дыра сквозная.
Мы когда-то и с кем-то... Кажется... Жили. Были.
Ну а петь и играть – и слов-то таких не знаю.
***
Мысль обернется материей, слово – ложью,
Очи горе возведёт от смартфона Тютчев.
Столько осадков от найденных снова ложек,
Впору упаковать их обратно в тучи.
Ложе, рубаху и хлеб преломи с друзьями,
Ну, раздели, тут дело совсем не в хлебе.
С неба седьмого скажи: ты в помойной яме.
В яме сидишь – пусть думают, что на небе.
Раньше мечтали вырасти космонавтом,
Розы растить во мгле орбитальных станций...
Стать бы любым, кто не деятель и не автор.
Да и не текст, без риска интерпретаций.
Мысль обернётся материей, ложью слово.
Все эмбрионы потенциально трупы.
Стать бы амёбой. Туфелькой. Безголово
Плыть в никуда, не думая, молча, тупо.
Чтоб ничего не рано или не поздно.
Движутся псевдоподии ровно, плавно.
Там, наверху, лучи, корабли и звёзды.
Только амёба не знает о том, и славно.
***
Исподлобья взгляд, неплатежеспособный вид,
Облака, не пропускающие озон,
Знать кого-то с изнанки – больше любой любви,
Любишь город – люби и копоть его промзон.
О, не для слабонервных – прогулки в таких местах.
В Эрмитажи с Исаакием ходят кто поумней.
Мне всегда было интереснее долистать
Книгу после обложки, чтобы понять о ней.
Не в Кунсткамере прячется самый ужасный монстр.
До него на общественном транспорте час пути.
Вместо ярких магнитиков про разведённый мост
Я пройдусь по тому, который не развести.
На окраинах нет кисейных белых ночей.
Ночи разнорабочи, водочны и смуглы.
Питер там называют – Петя, и он ничей,
Матерится, бухает, не сглаживает углы.
Он закурит как паровоз, что везёт в Москву
Вот таких же, как я, не крикнет: остановись;
Горько сплюнет сквозь пломбы: «я без тебя проживу».
А потом пошлет на три буквы такую жизнь.
***
Далек Назарет, но вот СНТ Назарьево,
Над тем и другим восходит святое зарево
О том, что потом родится стихотворение,
На Марсовом снова запахнет густой сиренью,
Нолик останется, крестик сорвётся с листика,
Возлюбленная, ненавидимая холистика.
Электричково – электричкам, ослу – ослово,
В начале было не слово, совсем не слово.
Была тишина выше неба и глубже скважин
Близ населённого пункта, что был не важен.
В Назарьево весть благая почти такая же:
Здесь и трехлапый кот,
И топаз растаявший,
И лес, у которого нет ни конца ни края,
И я, живу, наконец-то не выбирая.
***
Ремонтируют пруд. И меня ремонтируют тоже.
Имя мне котлован. Океаном не стану, похоже.
Стану местным хранилищем списков покупок и сплетен,
Хлебных крошек и взгляда Того, Кто Всегда Безответен –
Так зовёт его каждый упавший листом неудачник.
Все ответы вот тут, потрудись дочитать свой задачник.
Ремонтируют пруд. Он зальется сентябрьской водицей,
Словно школьница – смехом. Я буду ей очень гордиться.
Хорошо, что она не моя, не получит в наследство
Молоком с коммунальной плиты убежавшее детство.
Тряпкой вытереть – кто, скажите, сочёл бы за труд?
...ремонтируют пруд.
Обещают в четвёртом квартале. Надеюсь, не врут.
***
Не медь звенящая, а волевой вольфрам.
Все сплетни спят по барам и дворам.
Приеду в гости кости перемыть
Всем, кто не понимает слов прямых.
Свинину начинять: чеснок, морковь.
Стихов насочинять: любовь и кровь.
Букинистический ларек из стеллажа,
Кот мякнул мимо нот и налажал.
Как хорошо, что мы не зеркала,
Что отраженный мир спалят дотла.
Ты волевой вольфрам, ты волшебство,
Я медный грош, не стоивший того.
© Aldebaran 2025.
© Стефания Данилова.
© Стефания Данилова.