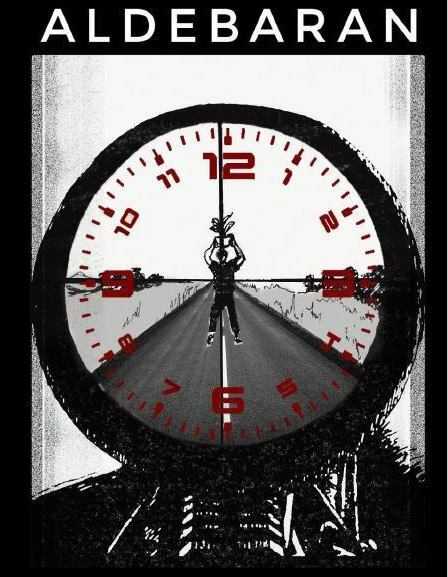Молоко
Вячеслав Молчанов
Рассказы
Молоко
(рассказ)
Раненый перестал стонать. Мы осторожно положили его на землю, будто спящего ребёнка. Тонкие черты лица его, ещё не покрытого ощетинившейся грубостью и едва тронутые жизнью, но уже в себе всякую жизнь потерявшие, выдавали в нём и натуру юную, и отсутствие человека вовсе – одно только бледное пятно на пожухлом лесном подножии.
Валерка опустился перед ним на колено, прохлопал по карманам хрупкое тело в надежде найти хоть немного табака, но скоро отчаялся.
– Уходим! – сказал я, опомнившись, – Вранья идёт.
Валерка быстро поднялся, уперся большими пальцами в рюкзачные лямки, и мы двинулись дальше. Уходя, я чувствовал босыми стопами, как дрожит под нами земля. Старики-егеря стращали у огня малышню: «Никого Вранья не упустит. Всех царица-ночь достанет, живые кости с мертвыми сложит. Баню себе строит, костями топит. И такой жар от них, что Солнце в земле не терпит, в небо прячется».
Но думалось мне с самого детства, что ни старики-егеря, ни кто слушал их, никогда Вранью не видали. А только босыми ногами чуяли, как идёт под землёй последний поезд, как роятся в породе тысячи клювов, чёрных да острых, как трещат вдалеке одинокие кости в глубокой опасной яме.
Шли мы не спеша и молча. Хотя и стоял нынче туман, будто гнилое молоко, и дальше опада лесного да собственных рук видать нечего, на душе было тихо. Час ли прошаришься, два ли – всё одно. Как нельзя не выйти, так и не войти нельзя, коли жить хочешь. Идёшь себе осторожно, босой ногой в молоке щупаешь – нет ли беды? Руку вперёд выставишь, обойдёшь аккуратно чёрный горелый остов мертвого леса, да потихоньку ступаешь.
Хуже-то всего в тумане, когда в самую чащу лезешь, а сам того не ведаешь. Или так продрогнешь, что и не заметишь, как посередь болота встал. И видна кругом одна только сырая смерть. Ползешь, молишься – «Упаси мя, Господи!». Так с молитвою и выйдешь на твердое место, пока глаза твои одноногая с жабьими не спутала. А коли голодная, то всего целиком за задние лапки подкинет, да клювом острым так и сбреет с небес, словно ненужный волос. Взвоешь к небу-то в ужасе, руки подымешь, да разглядит ли Господь в таком тумане – не то люди, не то жабы в молоке роятся. Сыпнет на всех без разбору горсть кровавой клюквы. Так и шаришь впотьмах по мшистому пологу, да по ягодке к ночи с болота и выползешь.
Выдался нынче холодный август. Стлела за лето рубаха – парус на худом теле. Да иной раз и попутный ветер матерками сыпешь. Вышагнул я из тумана первый, обернулся – вдруг Валерка не выйдет? Хотел было вернуть в молоко оголодавшие по человеку руки, ухватиться и выдернуть родное тело, спасти брата. Да только собрался, как Валерка и сам широко и крепко вышагнул, весь в лесной требухе да ругани.
– Жрать охота, – только и сказал Валерка, – Пойдем скорее, замерзнем.
Обогнули мы по кромке высокий луг, диким овсом поросший в пояс, поднялись по холму до первого поворота и вышли на последнюю во всей округе дорогу. Едва разгулялось за день Солнце вне плотной молочной завесы, и грязь к ночи растопла. Потому ютились мы у самого края дороги, шли нога в ногу. Иной раз по лесу так в молоке промерзнешь, что ни своей, ни чужой души не чуешь, а один только голод. И виделась мне не грязь под ногами, а теплая сытная каша.
Наощупь мы продвигались вперед. И не было ничего в наших жизнях, кроме тяжкой непроходимой топи да скупой пищи, едва ли питавшей изношенное тело. Остановился я отдышаться. Сердце билось хотя и мерно, но понимал я: далеко за полночь перевалил этот мерный стук, и утро вот-вот не настанет. И пусть еще различал я зачем-то крохотные точки омертвевшего света в непроглядной выси, ясно было мне и другое: никогда они здесь меня не грели и не держали. Но всё ещё билось сердце, всё ещё крепко стоял лес в тумане, и ноги шли сами по себе, наперекор чужому этому свету, размытой дороге и мне самому.
Валерка был крепче, хотя и старше – другой породы. И если мне страшна была смерть, ему одно только одичание. Жилистый, высокий и не в лета свои ловкий, пожелтевшими и целыми ещё зубами мог он рвать плоть жизни, вцепиться в самую её суть, забыть в себе человека, не тянуть его, раненого, через туман за петлю на шее. Взвыть, сорвать с себя последние тряпки вместе с телом людским, хотя и есть тело людское одни лишь тряпки, что зверя прячут. Мог Валерка броситься в ельник, уйти навсегда от нашего человечьего запаха и жить без обузы и совести. Но коли попало семечко, и худая земля овсом порастет, зверем, птицею да человеком. А нарекла человеком мать – так уж терпи, тяни плуг свой в холод, голод и грязь. Потому как один зверь не терпит, других жрёт. А ты жри себя одного, такого, какой есть. Тем и сыт будешь.
Добрались мы до избы в глухой ночи. Издали почуяла Матрёна наш уставший дух, во двор встречать вышла прямо с Алёшкой. Тот, босой, в одной только бедовой рубахе, вытянулся близ неё на цыпочках, обхватил ручонками бабью ляжку и жадно сосал молоко то с одной, то с другой титьки. Но молоко, видать, шло пустое, холодное, и в свете огня таяли на Алешкином личике слезки. Подняла Матрёна керосинку повыше, вгляделась:
– Вдвоем-то и выбрались только, – сказал Валерка, – В дом пошли, дитя-то застудишь.
– Да в доме-то не теплей, – бросила небрежно Матрёна, и мы зашли следом.
Запахнувшись, забегала суетливо баба по дому, справила нам съестного на стол, что Господь послал. И всё же теплее было в избе, и с порога ещё до ужина повеяло сном. Ополоснув на входе ноги в латунном тазу, прошли мы в крохотную комнатку, потолок которой я едва не шаркал затылком. На столике у окна паром зашлась похлёбка. Валерка выдвинул из-под столика косой табурет. Окинув строгим взглядом ютившихся у печи детей, он уселся за стол и принялся жадно и скоро хлебать мучной кипяток. Я уселся напротив, сглотнул пару-тройку обжигавших нутро ложек едва ли сытного варева и спохватился:
– Валерка, где рюкзак-то?! – затаились детки от моего вскрика.
Куб почти прогорел, и в полутьме я не мог разобрать их лица, как не мог и пересчитать. Отблески множества глаз, отчётливо видневшихся в скупом свете, слились в одно большое создание. Будто снятые с неба звёзды просыпались в избу, вблизи ставшие еще холодней.
Валерка нырнул под стол, нашарил в темноте обернутый аккуратно в тряпочку чёрный куб, окликнул Матрёну.
– Большой такой, где откопали? – спросила баба, осторожно разворачивая куб большими мягкими руками.
– До ручья ходили, – ответил Валерка.
– У ручья-то опасно, не шарили бы далёко так, – запричитала Матрёна, протискиваясь меж деток к печке.
– Ничего, мать. Завтра ещё больше вытянем, – сказал Валерка и весело мне подмигнул.
– Красный ручей-то, одна смерть от него по лесу, – не унималась Матрёна.
Баба подняла руки, пустила куб в самый верх, чиркнула огнивом. Куб вспыхнул, поплыл под потолком, без всякого дыма обдал комнатку жаром и ярким светом. Вчерашний огарок, немощно забившийся в угол у самой печной трубы, Матрёна ловко подхватила половником и метнула в печь. Затрещало в горниле, рассосался огарок под пламенным языком.
– Да что мне твоя смерть, мать. Да есть ли она, пока в избе такое тепло и свет? – полушепотом произнёс Валерка в томном прищуре.
В свете я отчетливо разглядел всех детей, расползшихся тут же по комнатке. Кроме Алёшки было их ещё шестеро. Одному в избе иной раз тесно, а с оравой ребятишек и ступить некуда. Все они были мне хорошо знакомы, кроме двоих. Утром в избе их ещё не было. Мальчик лет четырёх с девчушкой постарше держались вместе, поодаль остальных.
– А эти откуда? – спросил я, вглядываясь поочерёдно то в одно, то в другое детское личико, будто мне знакомое.
– Добрались вот. Сами пришли, с дальнего края. Во дворе встали, травку жуют, как козлята. Там по степи голод у них страшней нашего. Мать, видать, воздух ела, пустым молоком себя вывела на тот свет. А отец с горя в тумане и сгинул. Энтого вон искупать хотела, да не даётся, кусается.
Мальчишка сидел весь перемазанный, сопел и кидал пред собой кубики-кости. Девчушка за ним присматривала, вслух вела счёт, то и дело толкала брата под бок, будто в какой игре.
– А ты малой чегой делаешь? – спросил я, склонившись вперёд к детям.
– А гадает он, дяденька, – ответила девчушка, – А я счёт веду.
– А давно папка-то в лес ушёл? – спросил я, едва сдерживая слёзы.
– Давно, дяденька, давно ушёл. Мы у бабки Таисьи жили, об еёный живот грелись, пока тёплый был.
– А звать-то тебя как? – спросил я в безответной надежде.
– Аришкой звать. А ето вот Геннадко.
Мальчик перестал бросать кости, поднял на меня в удивлении голубенькие свои глазёнки.
– Ой какие кубики у тебя, Геннадко. Где взял? – спросил я.
– Он тебе, дяденька, всё равно не скажет, он со мной только и умеет говорить. А его я и понимаю только. А то папкины кубики, – ответила бойкая Аришка.
Вдруг Геннадко будто опомнился, схватил кубики и с силой бросил посередь комнатки. Наклонилась Аришка к брату, послушала его шепоток в ухо с умным видом, посмотрела на меня строго.
– Вот, говорит, папка наш. Ты, говорит, папка, – сказала Аришка, и тут же затрепетала вся, крохотная, расплакалась. Потянула ко мне ручонки. Обнял я её, обнял и вскочившего вслед за сестрой Геннадко, зашёлся и он слезами. Обхватили мне шею, жмутся, как щенята тёплые. Тут и я такой ласки не выдержал, слезами пошёл горькими:
– Позабыли поди, папку-то? А папка-то вас с порога во тьме приметил, запах ваш папка почуял, родной запах-то, кровный, – затараторил я сквозь слёзы. – Постарел папка в молоке-то, поседел в тумане. Сам теперь как туман, вишь какой по вискам белесый. В лес вышел, дорогу забыл, заплутал. Потерялся папка, а теперь нашёлся. А вы-то! Вы-то у меня вон какие ребята бойкие! Сами дорогу нашли, сами выбрались. А-ну, поцелуй-ка папку! Вот хорошо!
Просидел я с ними полночи в обнимку, проплакал, пока на руках не уснули. Положил их поближе к печке да к другим детям, где потеплее, накрыл одеяльцем. Валерка с Матрёной лишь молча на нас смотрели, не лезли. Пошёл Валерка курить во двор, я за ним вслед вышел. Сели мы на крыльце, скрутили по папироске и запыхтели. Светало во всю уж, и тепло было на душе моей, будто нет никакого боле тумана, будто всё молоко вывелось прочь с земли нашей.
– Не твои-ж детки-то, Савва, – сказал Валерка и потупился.
– Да важно ли разве, чьи они? – ответил я, затушил окурок о порог и вернулся в избу.
Матрёна уснула с Алёшкой на руках. Тот в полусне то и дело тянулся к соску, будто боясь навсегда потерять из виду. Остальные дети тихо и неподвижно спали. Куб к утру прогорел вполовину, и через час-другой пора было выбираться за новым.
Быт
(рассказ)
Я вот говорю себе: «Быт формирует сознание». Но разве ж это быт? Нет. Здесь есть всё. И мусор. И опилки от кошачьего туалета. Здесь разлитое молоко. Гнилые овощи в холодильнике. А быта нет.
Уж как я только этот быт не искал. И под кроватью. Но там только грязные носки и пыль. Искал и в шкафу на кухне, но там только тараканы. Нет быта и точка.
Как-то вечером сижу я один на кухне. А один потому, что жена с детьми уже как месяца два уехала от меня к тёще на дачу. А я остался. Мне работать нужно, деньги зарабатывать. Впрочем, не совсем я в одиночестве. Вижу, что кот крадётся. Жрать хочет. Побаивается меня. Я когда выпью, меня это, все побаиваться начинают. Кроме, только, соседа, Василия Павловича. Почему по имени и отчеству? Да потому, что Василий Павлович, во-первых, человек в летах – ему, как-никак, уже пятьдесят три года исполняется на неделе, а во-вторых, Василий Павлович – это мой непосредственный начальник. На предприятии он строгий мужик, а через пятнадцать минут должен зайти ко мне в гости. Я уже и стол накрыл, и бутылку достал. На столе два салата. Один из огурцов, а другой – из помидоров. И в каждом лук. Воду на пельмени поставил. Сижу на кухне в трусах и майке. Курю в окно. Лето.
Раздался звонок. Кот первый побежал встречать гостя. Не сказать, что мы с Василием Павловичем друзья, но приятели хорошие. я бы даже по-советски сказал – «товарищи!».
Василий Павлович оригинальностью не отличился. Тоже в майке, но в трико. Правильно, в гости же человек идёт, да и нечего в трусах по подъезду маячить.
– Вечер добрый! Проходи, дорогой, проходи! – я человек очень гостеприимный. Сразу с порога ему водки стопку подаю, да огурец на вилке.
– О, хлебом-солью, значит! Это хорошо, Игорь Алексеевич, это очень хорошо! А главное – быт у тебя просто прелесть.
Начальник выпил стопку и закусил. Солёный огурчик захрустел, подавляя горький вкус столь родного нам напитка. И пока он хрустел, я успел подумать, а если точнее, было это странное мимолётное удивление от того, что Василий Павлович зачем-то сказал мне о быте. Что он хотел этим выразить – загадка. Но тему я продолжать не стал и пригласил гостя из тёмного коридора сразу к столу.
В свете дня можно различить, как лучи солнца поигрывают на потной коже старика. Ну как, старика. Я младше всего на десяток. Не такой уж он и старик, да только на заводе мы все его так зовём. Не при нём, конечно, но зовём. Старик принёс ещё одну бутылку, почесал лысину и снял очки. Он сел напротив окна, а я – напротив него. Бутылка тут же влетела в морозилку, дабы охладиться. В такую жару тёплую водку пить – самоубийство.
Разлили по рюмочке. Пельмени закипали, а разговор только-только пошёл. Вечереет. Но жара спадёт часа через три, не раньше. Поэтому смолим без остановки в открытое настежь окно. Со второго этажа видно двор. Он зарос кустами. Вдалеке, у дальнего края, играют в пыли дети, словно чумазые черти. Где-то там скачет и внук Василия Павловича. Ему шесть. В сентябре пойдёт в школу. Василий Павлович долго вглядывался, но звать его не стал. Деду на выходные привезли этого сорванца, но его воспитанием больше занимается бабушка – жена Василия Павловича, так как он в выходные больше занят воспитанием меня.
А воспитание у него одно – наливай да пей. Такой вот мужик. На работе – ответственный. Мы его уважаем и ценим. А придёт другой кто на его место, сверху посаженный – то сразу забастовку. Не отдадим нашего алкашика. На нём всё производство.
– Игорь Алексеевич, я вот всё хочу у тебя спросить, – он поперхнулся дымом и закашлялся.
Я налил ещё по стопарю. Мы выпили, затушили окурки в банку из-под кофе, и я принялся раскладывать пельмени по тарелкам.
– Спрашивай, дорогой, спрашивай.
– Игорь Алексеевич, вот я тут о чём призадумался. Мы всё с тобой каждые выходные пьём да пьём, пьём да пьём. И ведь хорошо на душе. И не нужно больше ничего. Бабу только иногда хочется, да уже как-то не тот возраст, что ли... Да не об этом речь. Вот ты мне скажи – это ли наш истинный быт? Так ли он должен существовать?
Тут я присел с кастрюлей в руках. Легкое помутнение вкупе с паром и дымом, а самое главное – с водкой, дало о себе знать. Ведь несовпадение же.
– Да знаешь, как-то... и нет у меня быта-то особенно. То есть, он как бы есть, но, вроде бы, это бытом и не назовёшь.
– Да и я вот про то. Менять что-то надо тебе, Игорь Алексеевич, менять. Это мне старику скоро на пенсию. А тебе ещё полжизни впереди. Я свою серединную черту уже переступил и готовлюсь постепенно к жизни другой.
Мне стало не по себе. Сперва от того, что он меня выделил как человека без быта. У меня и семья больше, и кот, и в квартире, значит, жизнь кипит. Вроде, быт есть. А то, что жена с детьми вернётся или нет, я ещё наверняка не знаю, всё хочу ей позвонить, поговорить. Но пока как-то не до этого. Может, к осени.
Потом я подумал, что это у него дела плохи. Кто в пятьдесят три года о загробной жизни на кухне в трико думает? Ладно, ещё о рыбалке да водочке. Сломил мужика его быт. И работа сломила.
Я разлил ещё по одной и съел полтарелки пельменей, пока горячие. В прикуску с салатом сок не так сильно обжигал, а с водкой так вообще просто песня. Мы немного помолчали, а затем вновь принялись смолить.
Солнце близилось к горизонту. Красные лучи заката золотом заполнили каждый уголок наших одиноких кухонных душ.
Потом мы болтали обо всякой чепухе, о чём обычно говорят на кухне пьяные мужики. В ход пошла вторая бутылка и второй салат. Пельмени заветрелись, остыли и покрылись корочкой. В мутном бульоне плавали кусочки теста, и от этого вида мне вдруг стало так тоскливо. Какой-то ветер поднялся неприятный, и я закрыл окно, оставив только форточку.
Кот спал на холодильнике, свесив рыжий хвост. Василий Павлович вдруг потянул руку в рот, вырвал зуб и положил на стол. Меня передёрнуло. Я отвернулся и посмотрел на дно кастрюли. Остатки бульона уже высохли. Сперва я подумал, что мне показалось, так как кухню освещала только одна лампочка, и в полумраке пьяного бреда может почудиться всё, что угодно. Но нет. Я сунул в кастрюлю палец. Дно покрылось плесенью, и меня затошнило. К горлу подступили останки непереваренных пельменей, и я машинально соскочил, распахнул окно и блеванул вниз. Вместе с рвотой вылетело из меня и моё безмерное удивление. Зелень во дворе исчезла, а место её заняла болезненная желтизна. Листья метал по земле ветер, цепляя ненароком и блёклые опустевшие ветви. О, как же мне захотелось протрезветь! Как захотелось вжаться в себя, спрятаться за пледом и легким шумом старого телевизора. И чайку, чайку бы выпить… На чайку у меня нет. Есть только водка. Я повернулся, чтобы убедиться, что не сошёл с ума. Василий Павлович ухмыльнулся, немного поплевал кровью на пол, а потом добавил:
– Игорь, на дворе осень, а твои-то не приехали…
Быт мой разрушился окончательно. Я ещё налил. Мы выпили за здоровье. Потом меня повело на бок, и я обжёгся о батарею – дали отопление. После этой стопки Василий Павлович как-то тяжело задышал, и мы решили дымом табака прочистить его старые лёгкие.
– Красота! Какая красота! Люблю такую погоду, – начальник вполголоса что-то бормотал. Я, при всём желании, пытался разобрать старческий бред, но не мог расслышать ни слова. Поэтому переспросил.
– Что ты бормочешь, Василий Павлович?
– Да бабка его померла, что тут бормотать.
Я обернулся. Василий Павлович, будто не расслышав этого, продолжал смолить. Передо мной сидел самый незваный гость, которого я мог вообразить себе на собственной кухне поздним осенним вечером. В общем, рога да копыта. Да такие чёрные, такие огромные, что, когда чёрт хлопнул стопку, голову назад-то закинул, да обои порвал.
– Осторожней ты, козлина рогатая! Я недавно ж ремонт делал. Ты посмотри только, какие обои хорошие порвал! – а обои и вправду были хороши. Дорогие обои. Германские.
– Ты не болтай, налей лучше ещё по стопочке, – чёрт нога на ногу сидел на табурете. Одним копытом он нетерпеливо помахивал в воздухе, будто ожидая от меня чего-то. Но чего? Неужели не только выпить зашёл?
– Василий Павлович, дорогой, присядь. Ты уже на ногах еле стоишь.
В ответ на мою просьбу начальник, вскочивший зачем-то посреди кухни, что-то простонал и сел. Он посмотрел удивленно сперва на чёрта, потом на меня, потёр глаза, утёр майкой лоб и поднял стопку.
– Ну-с, господа, за встречу! – такими были последние его слова.
– За встречу! – поддержал чёрт. Я выпил молча.
– А хорошо, когда вот так тёплым зимним вечером можно посидеть с другом, с любимыми товарищами, попить водочки от души. Да, Игорь Алексеевич? Вы так не считаете, голубчик?
– Эх... Знаете, что я вот вдруг заметил? Что вы такой собеседник интересный. Вас и к чёрту не послать, и за водкой вы идти поди не хотите.
– Да побойтесь бога! Полный холодильник же!
– Не понял, – я открыл дверцу. Свет холодильника больно слепил глаза. Бутылок и вправду навалено было доверху. Приметил я и пару банок солений, и тогда только успокоился. Уж зиму, думаю, как-нибудь переживём.
Василий Павлович помер ранней весной. Кажется, в марте. Мы спустили его из окна, чтобы мёртвый дух аппетит не портил. Сухое, морщинистое старое тело, более напоминавшее хрупкий скелет, с треском повалилось на бордюр. Тут же налетели птицы. Голодные, они долго этого ждали и теперь жадно и с хрустом пожирали тело бедного никчемного старика, помешавшегося на быте, но не способного что-то в нём изменить. Чёрт закурил. Козлиные глазёнки его сощурились.
– Дождался. Небесные похороны, так сказать, – тихо выговорил черт, мешая слова свои с синеватым табачным дымком.
– А это ведь первое утро за сегодня, – заметил я. И вправду, всё вечерами ж сидели-то, а утром как хорошо! Я и забыл совсем.
– Да... – чёрт о чем-то задумался, но мыслями своими делиться не стал. Не поймёшь, говорит. Да я и особо-то не настаивал. Мне больше выпить хотелось. Горько вдруг так стало. Не от быта вовсе, а от того, что душа моя, если она ещё есть где-то на земле, блуждает бедная в потёмках и не найдёт себе покоя ни в быту, ни в водке.
© Aldebaran 2023.
© Вячеслав Молчанов.
(рассказ)
Раненый перестал стонать. Мы осторожно положили его на землю, будто спящего ребёнка. Тонкие черты лица его, ещё не покрытого ощетинившейся грубостью и едва тронутые жизнью, но уже в себе всякую жизнь потерявшие, выдавали в нём и натуру юную, и отсутствие человека вовсе – одно только бледное пятно на пожухлом лесном подножии.
Валерка опустился перед ним на колено, прохлопал по карманам хрупкое тело в надежде найти хоть немного табака, но скоро отчаялся.
– Уходим! – сказал я, опомнившись, – Вранья идёт.
Валерка быстро поднялся, уперся большими пальцами в рюкзачные лямки, и мы двинулись дальше. Уходя, я чувствовал босыми стопами, как дрожит под нами земля. Старики-егеря стращали у огня малышню: «Никого Вранья не упустит. Всех царица-ночь достанет, живые кости с мертвыми сложит. Баню себе строит, костями топит. И такой жар от них, что Солнце в земле не терпит, в небо прячется».
Но думалось мне с самого детства, что ни старики-егеря, ни кто слушал их, никогда Вранью не видали. А только босыми ногами чуяли, как идёт под землёй последний поезд, как роятся в породе тысячи клювов, чёрных да острых, как трещат вдалеке одинокие кости в глубокой опасной яме.
Шли мы не спеша и молча. Хотя и стоял нынче туман, будто гнилое молоко, и дальше опада лесного да собственных рук видать нечего, на душе было тихо. Час ли прошаришься, два ли – всё одно. Как нельзя не выйти, так и не войти нельзя, коли жить хочешь. Идёшь себе осторожно, босой ногой в молоке щупаешь – нет ли беды? Руку вперёд выставишь, обойдёшь аккуратно чёрный горелый остов мертвого леса, да потихоньку ступаешь.
Хуже-то всего в тумане, когда в самую чащу лезешь, а сам того не ведаешь. Или так продрогнешь, что и не заметишь, как посередь болота встал. И видна кругом одна только сырая смерть. Ползешь, молишься – «Упаси мя, Господи!». Так с молитвою и выйдешь на твердое место, пока глаза твои одноногая с жабьими не спутала. А коли голодная, то всего целиком за задние лапки подкинет, да клювом острым так и сбреет с небес, словно ненужный волос. Взвоешь к небу-то в ужасе, руки подымешь, да разглядит ли Господь в таком тумане – не то люди, не то жабы в молоке роятся. Сыпнет на всех без разбору горсть кровавой клюквы. Так и шаришь впотьмах по мшистому пологу, да по ягодке к ночи с болота и выползешь.
Выдался нынче холодный август. Стлела за лето рубаха – парус на худом теле. Да иной раз и попутный ветер матерками сыпешь. Вышагнул я из тумана первый, обернулся – вдруг Валерка не выйдет? Хотел было вернуть в молоко оголодавшие по человеку руки, ухватиться и выдернуть родное тело, спасти брата. Да только собрался, как Валерка и сам широко и крепко вышагнул, весь в лесной требухе да ругани.
– Жрать охота, – только и сказал Валерка, – Пойдем скорее, замерзнем.
Обогнули мы по кромке высокий луг, диким овсом поросший в пояс, поднялись по холму до первого поворота и вышли на последнюю во всей округе дорогу. Едва разгулялось за день Солнце вне плотной молочной завесы, и грязь к ночи растопла. Потому ютились мы у самого края дороги, шли нога в ногу. Иной раз по лесу так в молоке промерзнешь, что ни своей, ни чужой души не чуешь, а один только голод. И виделась мне не грязь под ногами, а теплая сытная каша.
Наощупь мы продвигались вперед. И не было ничего в наших жизнях, кроме тяжкой непроходимой топи да скупой пищи, едва ли питавшей изношенное тело. Остановился я отдышаться. Сердце билось хотя и мерно, но понимал я: далеко за полночь перевалил этот мерный стук, и утро вот-вот не настанет. И пусть еще различал я зачем-то крохотные точки омертвевшего света в непроглядной выси, ясно было мне и другое: никогда они здесь меня не грели и не держали. Но всё ещё билось сердце, всё ещё крепко стоял лес в тумане, и ноги шли сами по себе, наперекор чужому этому свету, размытой дороге и мне самому.
Валерка был крепче, хотя и старше – другой породы. И если мне страшна была смерть, ему одно только одичание. Жилистый, высокий и не в лета свои ловкий, пожелтевшими и целыми ещё зубами мог он рвать плоть жизни, вцепиться в самую её суть, забыть в себе человека, не тянуть его, раненого, через туман за петлю на шее. Взвыть, сорвать с себя последние тряпки вместе с телом людским, хотя и есть тело людское одни лишь тряпки, что зверя прячут. Мог Валерка броситься в ельник, уйти навсегда от нашего человечьего запаха и жить без обузы и совести. Но коли попало семечко, и худая земля овсом порастет, зверем, птицею да человеком. А нарекла человеком мать – так уж терпи, тяни плуг свой в холод, голод и грязь. Потому как один зверь не терпит, других жрёт. А ты жри себя одного, такого, какой есть. Тем и сыт будешь.
Добрались мы до избы в глухой ночи. Издали почуяла Матрёна наш уставший дух, во двор встречать вышла прямо с Алёшкой. Тот, босой, в одной только бедовой рубахе, вытянулся близ неё на цыпочках, обхватил ручонками бабью ляжку и жадно сосал молоко то с одной, то с другой титьки. Но молоко, видать, шло пустое, холодное, и в свете огня таяли на Алешкином личике слезки. Подняла Матрёна керосинку повыше, вгляделась:
– Вдвоем-то и выбрались только, – сказал Валерка, – В дом пошли, дитя-то застудишь.
– Да в доме-то не теплей, – бросила небрежно Матрёна, и мы зашли следом.
Запахнувшись, забегала суетливо баба по дому, справила нам съестного на стол, что Господь послал. И всё же теплее было в избе, и с порога ещё до ужина повеяло сном. Ополоснув на входе ноги в латунном тазу, прошли мы в крохотную комнатку, потолок которой я едва не шаркал затылком. На столике у окна паром зашлась похлёбка. Валерка выдвинул из-под столика косой табурет. Окинув строгим взглядом ютившихся у печи детей, он уселся за стол и принялся жадно и скоро хлебать мучной кипяток. Я уселся напротив, сглотнул пару-тройку обжигавших нутро ложек едва ли сытного варева и спохватился:
– Валерка, где рюкзак-то?! – затаились детки от моего вскрика.
Куб почти прогорел, и в полутьме я не мог разобрать их лица, как не мог и пересчитать. Отблески множества глаз, отчётливо видневшихся в скупом свете, слились в одно большое создание. Будто снятые с неба звёзды просыпались в избу, вблизи ставшие еще холодней.
Валерка нырнул под стол, нашарил в темноте обернутый аккуратно в тряпочку чёрный куб, окликнул Матрёну.
– Большой такой, где откопали? – спросила баба, осторожно разворачивая куб большими мягкими руками.
– До ручья ходили, – ответил Валерка.
– У ручья-то опасно, не шарили бы далёко так, – запричитала Матрёна, протискиваясь меж деток к печке.
– Ничего, мать. Завтра ещё больше вытянем, – сказал Валерка и весело мне подмигнул.
– Красный ручей-то, одна смерть от него по лесу, – не унималась Матрёна.
Баба подняла руки, пустила куб в самый верх, чиркнула огнивом. Куб вспыхнул, поплыл под потолком, без всякого дыма обдал комнатку жаром и ярким светом. Вчерашний огарок, немощно забившийся в угол у самой печной трубы, Матрёна ловко подхватила половником и метнула в печь. Затрещало в горниле, рассосался огарок под пламенным языком.
– Да что мне твоя смерть, мать. Да есть ли она, пока в избе такое тепло и свет? – полушепотом произнёс Валерка в томном прищуре.
В свете я отчетливо разглядел всех детей, расползшихся тут же по комнатке. Кроме Алёшки было их ещё шестеро. Одному в избе иной раз тесно, а с оравой ребятишек и ступить некуда. Все они были мне хорошо знакомы, кроме двоих. Утром в избе их ещё не было. Мальчик лет четырёх с девчушкой постарше держались вместе, поодаль остальных.
– А эти откуда? – спросил я, вглядываясь поочерёдно то в одно, то в другое детское личико, будто мне знакомое.
– Добрались вот. Сами пришли, с дальнего края. Во дворе встали, травку жуют, как козлята. Там по степи голод у них страшней нашего. Мать, видать, воздух ела, пустым молоком себя вывела на тот свет. А отец с горя в тумане и сгинул. Энтого вон искупать хотела, да не даётся, кусается.
Мальчишка сидел весь перемазанный, сопел и кидал пред собой кубики-кости. Девчушка за ним присматривала, вслух вела счёт, то и дело толкала брата под бок, будто в какой игре.
– А ты малой чегой делаешь? – спросил я, склонившись вперёд к детям.
– А гадает он, дяденька, – ответила девчушка, – А я счёт веду.
– А давно папка-то в лес ушёл? – спросил я, едва сдерживая слёзы.
– Давно, дяденька, давно ушёл. Мы у бабки Таисьи жили, об еёный живот грелись, пока тёплый был.
– А звать-то тебя как? – спросил я в безответной надежде.
– Аришкой звать. А ето вот Геннадко.
Мальчик перестал бросать кости, поднял на меня в удивлении голубенькие свои глазёнки.
– Ой какие кубики у тебя, Геннадко. Где взял? – спросил я.
– Он тебе, дяденька, всё равно не скажет, он со мной только и умеет говорить. А его я и понимаю только. А то папкины кубики, – ответила бойкая Аришка.
Вдруг Геннадко будто опомнился, схватил кубики и с силой бросил посередь комнатки. Наклонилась Аришка к брату, послушала его шепоток в ухо с умным видом, посмотрела на меня строго.
– Вот, говорит, папка наш. Ты, говорит, папка, – сказала Аришка, и тут же затрепетала вся, крохотная, расплакалась. Потянула ко мне ручонки. Обнял я её, обнял и вскочившего вслед за сестрой Геннадко, зашёлся и он слезами. Обхватили мне шею, жмутся, как щенята тёплые. Тут и я такой ласки не выдержал, слезами пошёл горькими:
– Позабыли поди, папку-то? А папка-то вас с порога во тьме приметил, запах ваш папка почуял, родной запах-то, кровный, – затараторил я сквозь слёзы. – Постарел папка в молоке-то, поседел в тумане. Сам теперь как туман, вишь какой по вискам белесый. В лес вышел, дорогу забыл, заплутал. Потерялся папка, а теперь нашёлся. А вы-то! Вы-то у меня вон какие ребята бойкие! Сами дорогу нашли, сами выбрались. А-ну, поцелуй-ка папку! Вот хорошо!
Просидел я с ними полночи в обнимку, проплакал, пока на руках не уснули. Положил их поближе к печке да к другим детям, где потеплее, накрыл одеяльцем. Валерка с Матрёной лишь молча на нас смотрели, не лезли. Пошёл Валерка курить во двор, я за ним вслед вышел. Сели мы на крыльце, скрутили по папироске и запыхтели. Светало во всю уж, и тепло было на душе моей, будто нет никакого боле тумана, будто всё молоко вывелось прочь с земли нашей.
– Не твои-ж детки-то, Савва, – сказал Валерка и потупился.
– Да важно ли разве, чьи они? – ответил я, затушил окурок о порог и вернулся в избу.
Матрёна уснула с Алёшкой на руках. Тот в полусне то и дело тянулся к соску, будто боясь навсегда потерять из виду. Остальные дети тихо и неподвижно спали. Куб к утру прогорел вполовину, и через час-другой пора было выбираться за новым.
Быт
(рассказ)
Я вот говорю себе: «Быт формирует сознание». Но разве ж это быт? Нет. Здесь есть всё. И мусор. И опилки от кошачьего туалета. Здесь разлитое молоко. Гнилые овощи в холодильнике. А быта нет.
Уж как я только этот быт не искал. И под кроватью. Но там только грязные носки и пыль. Искал и в шкафу на кухне, но там только тараканы. Нет быта и точка.
Как-то вечером сижу я один на кухне. А один потому, что жена с детьми уже как месяца два уехала от меня к тёще на дачу. А я остался. Мне работать нужно, деньги зарабатывать. Впрочем, не совсем я в одиночестве. Вижу, что кот крадётся. Жрать хочет. Побаивается меня. Я когда выпью, меня это, все побаиваться начинают. Кроме, только, соседа, Василия Павловича. Почему по имени и отчеству? Да потому, что Василий Павлович, во-первых, человек в летах – ему, как-никак, уже пятьдесят три года исполняется на неделе, а во-вторых, Василий Павлович – это мой непосредственный начальник. На предприятии он строгий мужик, а через пятнадцать минут должен зайти ко мне в гости. Я уже и стол накрыл, и бутылку достал. На столе два салата. Один из огурцов, а другой – из помидоров. И в каждом лук. Воду на пельмени поставил. Сижу на кухне в трусах и майке. Курю в окно. Лето.
Раздался звонок. Кот первый побежал встречать гостя. Не сказать, что мы с Василием Павловичем друзья, но приятели хорошие. я бы даже по-советски сказал – «товарищи!».
Василий Павлович оригинальностью не отличился. Тоже в майке, но в трико. Правильно, в гости же человек идёт, да и нечего в трусах по подъезду маячить.
– Вечер добрый! Проходи, дорогой, проходи! – я человек очень гостеприимный. Сразу с порога ему водки стопку подаю, да огурец на вилке.
– О, хлебом-солью, значит! Это хорошо, Игорь Алексеевич, это очень хорошо! А главное – быт у тебя просто прелесть.
Начальник выпил стопку и закусил. Солёный огурчик захрустел, подавляя горький вкус столь родного нам напитка. И пока он хрустел, я успел подумать, а если точнее, было это странное мимолётное удивление от того, что Василий Павлович зачем-то сказал мне о быте. Что он хотел этим выразить – загадка. Но тему я продолжать не стал и пригласил гостя из тёмного коридора сразу к столу.
В свете дня можно различить, как лучи солнца поигрывают на потной коже старика. Ну как, старика. Я младше всего на десяток. Не такой уж он и старик, да только на заводе мы все его так зовём. Не при нём, конечно, но зовём. Старик принёс ещё одну бутылку, почесал лысину и снял очки. Он сел напротив окна, а я – напротив него. Бутылка тут же влетела в морозилку, дабы охладиться. В такую жару тёплую водку пить – самоубийство.
Разлили по рюмочке. Пельмени закипали, а разговор только-только пошёл. Вечереет. Но жара спадёт часа через три, не раньше. Поэтому смолим без остановки в открытое настежь окно. Со второго этажа видно двор. Он зарос кустами. Вдалеке, у дальнего края, играют в пыли дети, словно чумазые черти. Где-то там скачет и внук Василия Павловича. Ему шесть. В сентябре пойдёт в школу. Василий Павлович долго вглядывался, но звать его не стал. Деду на выходные привезли этого сорванца, но его воспитанием больше занимается бабушка – жена Василия Павловича, так как он в выходные больше занят воспитанием меня.
А воспитание у него одно – наливай да пей. Такой вот мужик. На работе – ответственный. Мы его уважаем и ценим. А придёт другой кто на его место, сверху посаженный – то сразу забастовку. Не отдадим нашего алкашика. На нём всё производство.
– Игорь Алексеевич, я вот всё хочу у тебя спросить, – он поперхнулся дымом и закашлялся.
Я налил ещё по стопарю. Мы выпили, затушили окурки в банку из-под кофе, и я принялся раскладывать пельмени по тарелкам.
– Спрашивай, дорогой, спрашивай.
– Игорь Алексеевич, вот я тут о чём призадумался. Мы всё с тобой каждые выходные пьём да пьём, пьём да пьём. И ведь хорошо на душе. И не нужно больше ничего. Бабу только иногда хочется, да уже как-то не тот возраст, что ли... Да не об этом речь. Вот ты мне скажи – это ли наш истинный быт? Так ли он должен существовать?
Тут я присел с кастрюлей в руках. Легкое помутнение вкупе с паром и дымом, а самое главное – с водкой, дало о себе знать. Ведь несовпадение же.
– Да знаешь, как-то... и нет у меня быта-то особенно. То есть, он как бы есть, но, вроде бы, это бытом и не назовёшь.
– Да и я вот про то. Менять что-то надо тебе, Игорь Алексеевич, менять. Это мне старику скоро на пенсию. А тебе ещё полжизни впереди. Я свою серединную черту уже переступил и готовлюсь постепенно к жизни другой.
Мне стало не по себе. Сперва от того, что он меня выделил как человека без быта. У меня и семья больше, и кот, и в квартире, значит, жизнь кипит. Вроде, быт есть. А то, что жена с детьми вернётся или нет, я ещё наверняка не знаю, всё хочу ей позвонить, поговорить. Но пока как-то не до этого. Может, к осени.
Потом я подумал, что это у него дела плохи. Кто в пятьдесят три года о загробной жизни на кухне в трико думает? Ладно, ещё о рыбалке да водочке. Сломил мужика его быт. И работа сломила.
Я разлил ещё по одной и съел полтарелки пельменей, пока горячие. В прикуску с салатом сок не так сильно обжигал, а с водкой так вообще просто песня. Мы немного помолчали, а затем вновь принялись смолить.
Солнце близилось к горизонту. Красные лучи заката золотом заполнили каждый уголок наших одиноких кухонных душ.
Потом мы болтали обо всякой чепухе, о чём обычно говорят на кухне пьяные мужики. В ход пошла вторая бутылка и второй салат. Пельмени заветрелись, остыли и покрылись корочкой. В мутном бульоне плавали кусочки теста, и от этого вида мне вдруг стало так тоскливо. Какой-то ветер поднялся неприятный, и я закрыл окно, оставив только форточку.
Кот спал на холодильнике, свесив рыжий хвост. Василий Павлович вдруг потянул руку в рот, вырвал зуб и положил на стол. Меня передёрнуло. Я отвернулся и посмотрел на дно кастрюли. Остатки бульона уже высохли. Сперва я подумал, что мне показалось, так как кухню освещала только одна лампочка, и в полумраке пьяного бреда может почудиться всё, что угодно. Но нет. Я сунул в кастрюлю палец. Дно покрылось плесенью, и меня затошнило. К горлу подступили останки непереваренных пельменей, и я машинально соскочил, распахнул окно и блеванул вниз. Вместе с рвотой вылетело из меня и моё безмерное удивление. Зелень во дворе исчезла, а место её заняла болезненная желтизна. Листья метал по земле ветер, цепляя ненароком и блёклые опустевшие ветви. О, как же мне захотелось протрезветь! Как захотелось вжаться в себя, спрятаться за пледом и легким шумом старого телевизора. И чайку, чайку бы выпить… На чайку у меня нет. Есть только водка. Я повернулся, чтобы убедиться, что не сошёл с ума. Василий Павлович ухмыльнулся, немного поплевал кровью на пол, а потом добавил:
– Игорь, на дворе осень, а твои-то не приехали…
Быт мой разрушился окончательно. Я ещё налил. Мы выпили за здоровье. Потом меня повело на бок, и я обжёгся о батарею – дали отопление. После этой стопки Василий Павлович как-то тяжело задышал, и мы решили дымом табака прочистить его старые лёгкие.
– Красота! Какая красота! Люблю такую погоду, – начальник вполголоса что-то бормотал. Я, при всём желании, пытался разобрать старческий бред, но не мог расслышать ни слова. Поэтому переспросил.
– Что ты бормочешь, Василий Павлович?
– Да бабка его померла, что тут бормотать.
Я обернулся. Василий Павлович, будто не расслышав этого, продолжал смолить. Передо мной сидел самый незваный гость, которого я мог вообразить себе на собственной кухне поздним осенним вечером. В общем, рога да копыта. Да такие чёрные, такие огромные, что, когда чёрт хлопнул стопку, голову назад-то закинул, да обои порвал.
– Осторожней ты, козлина рогатая! Я недавно ж ремонт делал. Ты посмотри только, какие обои хорошие порвал! – а обои и вправду были хороши. Дорогие обои. Германские.
– Ты не болтай, налей лучше ещё по стопочке, – чёрт нога на ногу сидел на табурете. Одним копытом он нетерпеливо помахивал в воздухе, будто ожидая от меня чего-то. Но чего? Неужели не только выпить зашёл?
– Василий Павлович, дорогой, присядь. Ты уже на ногах еле стоишь.
В ответ на мою просьбу начальник, вскочивший зачем-то посреди кухни, что-то простонал и сел. Он посмотрел удивленно сперва на чёрта, потом на меня, потёр глаза, утёр майкой лоб и поднял стопку.
– Ну-с, господа, за встречу! – такими были последние его слова.
– За встречу! – поддержал чёрт. Я выпил молча.
– А хорошо, когда вот так тёплым зимним вечером можно посидеть с другом, с любимыми товарищами, попить водочки от души. Да, Игорь Алексеевич? Вы так не считаете, голубчик?
– Эх... Знаете, что я вот вдруг заметил? Что вы такой собеседник интересный. Вас и к чёрту не послать, и за водкой вы идти поди не хотите.
– Да побойтесь бога! Полный холодильник же!
– Не понял, – я открыл дверцу. Свет холодильника больно слепил глаза. Бутылок и вправду навалено было доверху. Приметил я и пару банок солений, и тогда только успокоился. Уж зиму, думаю, как-нибудь переживём.
Василий Павлович помер ранней весной. Кажется, в марте. Мы спустили его из окна, чтобы мёртвый дух аппетит не портил. Сухое, морщинистое старое тело, более напоминавшее хрупкий скелет, с треском повалилось на бордюр. Тут же налетели птицы. Голодные, они долго этого ждали и теперь жадно и с хрустом пожирали тело бедного никчемного старика, помешавшегося на быте, но не способного что-то в нём изменить. Чёрт закурил. Козлиные глазёнки его сощурились.
– Дождался. Небесные похороны, так сказать, – тихо выговорил черт, мешая слова свои с синеватым табачным дымком.
– А это ведь первое утро за сегодня, – заметил я. И вправду, всё вечерами ж сидели-то, а утром как хорошо! Я и забыл совсем.
– Да... – чёрт о чем-то задумался, но мыслями своими делиться не стал. Не поймёшь, говорит. Да я и особо-то не настаивал. Мне больше выпить хотелось. Горько вдруг так стало. Не от быта вовсе, а от того, что душа моя, если она ещё есть где-то на земле, блуждает бедная в потёмках и не найдёт себе покоя ни в быту, ни в водке.
© Aldebaran 2023.
© Вячеслав Молчанов.