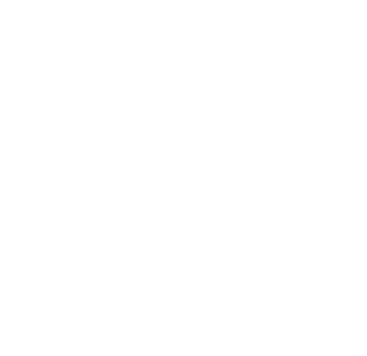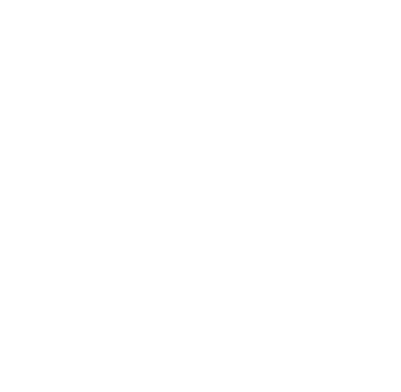Пресно-солёная жизнь Николая Коляды. Про жизнь и театр
Интервью
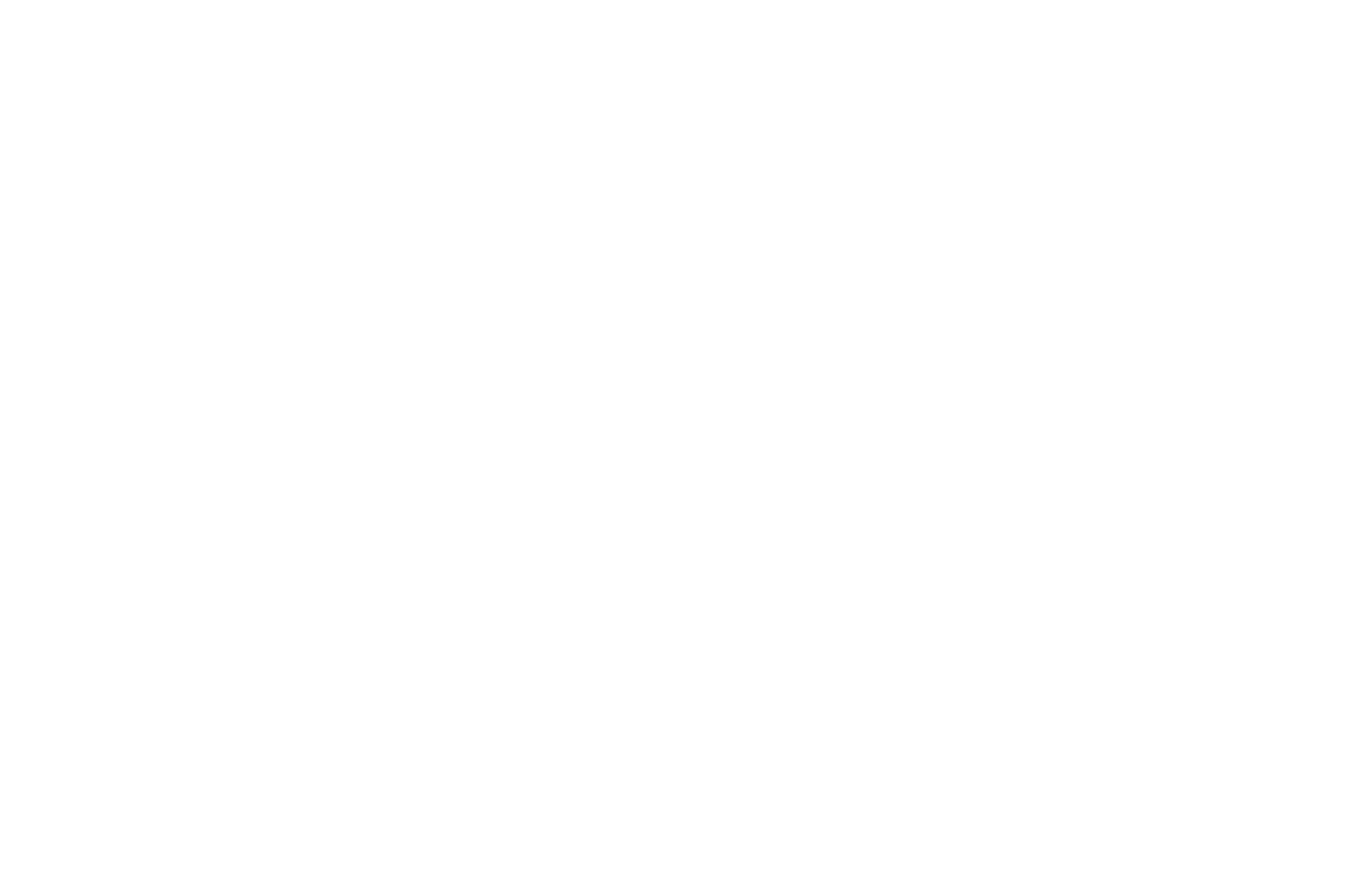
Николай Владимирович, мне хотелось бы начать, как это ни странно, с неудач, которые случаются в жизни каждого пишущего. Просто глядя на вас, можно подумать, что вы вообще никогда не сомневаетесь – делаете спектакли и радуетесь, когда все получается. Захотели создать свой театр в Екатеринбурге, и создали. Кому скажи вот сейчас, что собираешься открыть свой театр, покрутят пальцем у виска. Неужели никогда не сомневались в том, что все это получится?
Не помню. Может, и сомневался. Хотя – нет. Просто, бывает всякое, когда руки опускаются. Когда на тебя давят всякие разные обстоятельства и хочется плюнуть, и закрыть все, уехать на дачу в Логиново и писать мемуары.
Вот, в конце прошлого сезона в июне от меня ушла одна артистка, которая играла все главные роли и играла в одном составе. Объявила она мне об этом 30 июня, а 1 июля начинался отпуск.
А 1 августа начинается новый сезон.
Когда она мне сообщила, что уходит, я лег на диван в кабинете и часа два лежал, не двигаясь.
Потому что понял, что ставить новый спектакль в августе не получится, что надо делать вводы, а как их сделать? Огромные роли: Комиссар в «Оптимистической трагедии», Раневская в «Вишневом саде», Нина в «Маскараде» и так далее, и так далее…
Полежал, полежал, потом слезы вытер, сел за компьютер и написал новое распределение ролей. Дал всем артисткам роли и приказал выучить текст за июль.
Было это вечером, на сцене шел спектакль «Сорочинская ярмарка».
Спектакль закончился, я собрал всех и рассказал ситуацию, что в августе театр «будет стоять раком», что репертуар уже сверстан, билеты проданы на спектакли и что ни одной замены не будет.
И что?
Мы не заменили ни одного спектакли. Сделали все вводы в августе, у всех артисток получились прекрасные работы, не хуже, а даже лучше, чем было.
Я помню, как из «Современника» уходила, вот так же, одна артистка, а у нее были все главные роли.
И что?
Волчек сидела черная, ее колотило, она курила и говорила: «Ни одного спектакля я ей не подарю». То есть, ни одного спектакля она не сняла из-за того, что ушла та артистка. Волчек нашла других и ввела их в спектакли, и стало не хуже.
Вот так и я говорю (спасибо Волчек за этот и еще за тысячу уроков).
Нет, никому ничего не подарю.
Все вольны идти, куда хотят, но театр мой будет жить.
Как говорила Лейди в «Орфее спускается в ад»: «Смоковница снова жива! Я победила тебя, Смерть!».
Вот так и я. Побеждаю Смерть.
А сейчас, когда я пишу это, отвечаю на ваши вопросы, у нас снова неприятность: почти 20 лет каждый год мы катались на гастроли в Москву и без рекламы играли в больших залах по три недели наши спектакли.
В прошлом году нам отказал Центр На Страстном: из-за Ягодина.
Он сказал на каком-то концерте со сцены антивоенный лозунг. И все.
Но нашлись доброхоты, которые написали на него письма, что он наговорил черт знает что на том концерте. Хотя есть видео: не говорил!
Но советский суд – самый справедливый в мире, как вы знаете. И Ягодина осудили.
И что?
И его заблокировали везде.
Не снимают кино с ним, не дают его «Кураре» выступать, не пускают мой театр в Москву.
Эти словам на концерте были сказаны Ягодиным четыре года назад.
Был суд, его оштрафовали на 40 тысяч, но вот: решили и дальше прессовать.
Уж как еще ему повиниться – не знаю.
И с чего вдруг они решили там (не знаю кто), что мой театр, соответственно, не патриотический или еще что такое.
Ну, пришли бы, да посмотрели хотя бы спектакль «Тарас Бульба», который мы играем вот уже четвертый год – всегда битком зал.
Что там говорится в финале?
«Да разве найдутся на свете такие огни и муки, и сила такая, которая бы пересилила русскую силу?! Пусть же славится до конца века Русская земля!..»
Это слова Гоголя.
Так что, сейчас я пишу и звоню, и пытаюсь снова договориться с какой-то площадкой в Москве, чтобы мы приехали на гастроли, но мне все отказывают.
Все. Нас заблокировали в Москве.
Ну и что?
Все равно найду сцену, и все равно мы приедем.
Мне ужасно обидно.
Но что делать? Ничего.
Вся жизнь борьба.
А как с чиновниками?!
Да это же ужас просто.
Это не люди. Это рептилоиды.
Я вот листаю ленту новостей и все время вылезает на фотографиях одна наша местная чиновница.
И знаете, что я произношу громко, видя ее рожу?
Вслух говорю, громко, аж все мои пять кошек разбегаются по квартире, думая, что я про них говорю?
– Мандавошка, – говорю я про эту чиновницу, и листаю ленту дальше.
Снова ее рожа, и я снова говорю:
– Мандавошка.
Потому что она – самая настоящая мандавошка.
Но от нее зависят судьбы людей, она решает что. От этой идиотки, которая как-то пролезла во власть.
Уродина поганая.
И знаете, сколько этих мандавошек во власти расплодилось?
Миллионы. Твари. Ненавижу их.
В этом году нам не дали денег на фестиваль «Коляда-Plays».
Сказали, мол, плохо документы оформляете.
Врут. Опять – из-за Ягодина.
Ну, что нам всем: выйти на площадь и, чтобы покаяться, – керосином себя облить и поджечь? Ползти потом ползком к Кремлю и посыпать голову пеплом? Какого черта вообще жить не дают?!
Не дали денег на фестиваль? Хорошо.
А я объявил весной сбор, и мне прислали люди, простые люди, зрители – прислали денег.
Думаете, за мои красивые глазки?
Нет. Все знают (чиновники не знают только этого), что я работаю для людей, для великого русского реалистического театра, работаю, как проклятый.
И я знаю, что мое дело правое и значит: победа будет за мной.
А вот если вернуться в самое начало, в юность. Вы уезжаете из Пресногорьевки и поступаете в Свердловское театральное училище, пишете первые рассказы. Было ли страшно уехать от родных, не поступить, опозориться? Как восприняли родители ваше решение стать актером?
Во-первых, деревня называется «Пресногорьковка», а не «Пресногорьевка». Все путают, все так говорят. Никаких гор там нет.
А есть чудо природы: в ста метрах друг от друга Пресное озеро, где камыш, где рыба водится и совсем рядом – озеро Соленое, где мертвая зыбь, вода – горькая.
Потому и название: Пресногорьковка. Было бы «Пресносоленовка» – было бы некрасиво. А Пресногорьковка (ударение на третье «о») – красиво. Русские люди придумывают красивые имена на карте своей Родины.
Вот так и жизнь моя: пресно-соленая, пресно-горькая. То хорошо все, то жуть просто.
Кстати (хотя совсем некстати, но похвастаюсь – есть чем), именно я начал восстановление Храма (как потом оказалось – Храм Святого Николая) в моей деревне в 1989 году. Храм разрушили большевики в 1937 году, так он и стоял, разбитый. А я начал восстанавливать. И горжусь этим страшно.
Помню, я приехал тогда приехал из Америки, с подарками приехал в деревню, привез всем – маме, папе, братьям и сестре какие-то безделушки.
И мама сказала тогда:
– Сынок, ты у нас такой умный. Везде ездишь, всех знаешь. Помог бы ты нашу церкву в деревне восстановить?
Помню, что меня словно ошарашило. Как я сам до этого не додумался раньше?! Не знаю. Тогда у меня не было театра, я был богатый, я ходил – у меня деньги из карманов сыпались. Ну вот. Я создал в деревне общину, открыл счет, положил на счет 5 тысяч рублей (тогда машина стоила пять тысяч) и начал ездить везде и требовать, чтобы разрешили восстанавливать храм. А это – Казахстан. Казахские чиновники уперлись: как так – мечети нет, а церковь православная будет?!
Ну, не буду долго рассказывать про это.
Сейчас Храм Святого Николая живет и работает и я, подъезжая к деревне, вижу издалека маковки церкви и так радуюсь – не рассказать как.
А тогда, в 1973 году, я закончил 8 классов и вдруг решил, что надо начинать взрослую жизнь. Был я в семье не совсем нормальным ребенком, правду сказать. Я читал книги с детства. Писал рассказы. Участвовал в самодеятельности. Сестра и братья учились так себе, на троечку, а я учился на одни пятерки. По вечерам я катался на велосипеде по помойкам вокруг деревни и собирал пустые бутылки, а потом их сдавал и покупал книги.
Мама и папа, видя, что я тронутый немного, подарили мне на день рождения (кажется, 12 лет мне было) книжный шкаф. О, Боже! Я выставил в него все мои книги, я переставлял их снова и снова – так и так! Я открывал дверцы шкафа и словно открывались двери в другой мир, словно паруса натягивались на корабле, я словно улетал куда-то, дверцы шкафа становились крыльями! Книги пахли типографской краской, да и сам шкаф был какого-то невероятного запаха – дерево пахло так вкусно!
Да. Это было прекрасно и это одно из самых замечательных воспоминаний детства.
И я тогда, глядя в телевизор, думал, что артисты – богатые люди и что у них красивая жизнь.
А еще я посмотрел фильм «Начало» с Чуриковой и словно заболел. Выпускное сочинение после 8 класса я писал о фильме «Начало». Мог ли я себе представить, что я через много лет приду на похороны Чуриковой, встану у ее гроба в Храме Христа Спасителя и буду смотреть на эту маленькую, хрупкую, великую женщину в гробу, которая сделала мою жизнь другой, и сделал ее фильм «Начало».
Как она там смешно говорила: «А я, девочки, оставлю свой след в искусстве…»
Ну вот. После 8 класса я листал справочник для поступающих в средние специальные учебные заведения. Нашел ближе всех – Свердловское театральное училище. И решил туда ехать. Выслал туда документы. Мне пришел ответ – за номер 12. И вот с тех пор эта цифра 12 меня сопровождает всю жизнь, везде, и я ее очень люблю. В училище я ездил на 12 автобусе, у меня вышло 12 томов собрание сочинений (скоро выйдет еще пять томов), я родился вообще-то в 12 месяце, ну, и так далее.
Приехал я в Свердловск с отцом. Остановились на ночь у каких-то родственников на Химмаше. На следующий день отец и тот мой родственник нашли мне квартиру на улице Шмидта, 90. Там был старый дом, туалет на улице, и хозяйка дома Феоктиста Михайловна сдавала одну из комнату – для двух парней, один парень был из мединститута, и я с ним. У дома был большой сад. Феоктиста Михайловна когда-то работала в хоре театра оперы и балета. Рассказывала, что улица Шмидта и район нынешнего автовокзала были окраиной и что она ездила на лошади в театр.
На Шмидта, 90 был огромный сад. Я потом написал про Феоктисту Михайловну в пьесе «Букет». Все наврал, конечно, весь сюжет, но, когда писал пьесу, стоял перед глазами тот дом и тот сад.
52 года назад я приехал в Свердловск.
19 августа 1973 года был первый тур в театральном училище. Конкурс был огромный. Народу было возле училища на Пальмиро Тольятти 26а – туча, море.
Как мне было страшно, помню: столько красивых девчонок и парней, все пришли сдавать экзамены на артистов, и я тут с ними: деревня, заштопанные рукава на сером пиджачке, в котором я ходил в школу в 8 класс, и он мне казался таким модным.
Я говорил «стИральная машина», «пальцАми», «не плямкоти» и весь набор сельского человека.
Первый тур вели Вероника Михайловна Воронова и Лия Евсеевна Свидлер.
Я читал им «Песню о Буревестнике», а заготовленный «Заяц во хмелю» мне не дали прочитать, сразу пустили на второй тур.
На втором туре я читал то же самое.
И еще читал стихотворение Сергея Острового «Мама»:
« … Первое слово ребенок сказал: – Мама!
Вырос… Солдатом пришел на вокзал: – Мама!
Вот он в атаке на дымную землю упал: – Мама!
Встал. И пошел. И губами горячими к жизни припал: – Мама!
…А у меня нет мамы. Она умерла.
Вот еще одной мамою стало меньше на свете.
Ах, зачем же ты, мама, в постель земляную легла?
Или жесткой кровать показалась тебе на рассвете?..»
Помню, как дочитал до конца.
Тамара Ивановна Абрамова, директор училища, спросила меня вдруг тихо и осторожно: «А у вас мама есть?»
Может, потому спросила, что я так печально стихотворение прочитал? Не знаю.
Я сказал, что моя мама работает уборщицей в детском саду.
Потом был третий тур.
Я пел песню «Вдоль по Питерской» и почему-то все очень смеялись.
Потом я спросил через год или два у моего педагога Вадима Михайловича Николаева (светлая память!):
– Вадим Михайлович, а почему вы меня взяли?
Спросил потому, что там, действительно, выбор был такой, что – ого-го! – двести, что ли, человек на место.
А он сказал:
– Знаешь, я посмотрел на тебя и подумал: кости есть, а мясо нарастет.
И потом каждый раз в училище, когда я выходил на площадку, Николаев все время говорил, поворачиваясь к курсу, в зал:
– Смотрите на Коляду! Видали? Будущий народный артист Советского Союза!
На курсе учились все взрослые.
Тольке Цыплякову было 27 лет.
А мне 15.
Они все смеялись надо мной и над моими деревенскими глупыми привычками.
Помню, встану за шторку в аудитории и плачу. Потом слезы вытру и выйду злой.
Свидлер, которая пропустила меня на второй тур, говорила моему классному руководителю Азалии Всеволодовне Блиновой:
– Ну, этот твой, полоротый…
А Блинова сказала, что меня на зимней сессии отчислят: профнепригодность. Толстые губы. Не понять ни слова.
А я сказал: ага, не дождетесь. Я так всю жизнь говорил и говорю.
И потому я в шесть утра приходил в училище и часа два-три до занятий делал эти «кпти-гбди», пока не выучился говорить, как надо.
Ну вот. Это было так давно и мне так страшно рассказывать об этом.
Это все равно, что в том же 1973 году кто-то бы мне рассказывал про 1923-1924 годы, конец гражданской войны и начало коллективизации, а я бы смотрел на него, как на мамонта, и думал бы: почему он еще живет?!
Ведь вся его жизнь уже в учебниках по истории!
Ну да.
И моя жизнь в учебниках уже.
А отец, кстати, даже и не дожидался конца экзаменов. Он поехал домой, я провожал его на вокзале. И там, возле большого квадратного столба на вокзале, он дал мне 30 рублей и сказал: «Ну, давай, Колька…»
И уехал. И теперь, приходя на вокзал, я всегда стою возле того столба и улыбаюсь, вспоминая тот день.
Вообще профессия актера и писателя – это почти разные полюсы. Особенно это видно по Литинституту, где мы с вами в разное время учились. Ребята из Лита – в основном интроверты, которые ходят себе там чего-то мечтают, линза их восприятия как бы обращена внутрь. Когда я поступала в Лит, были и те, кто пробовали поступать во ВГИК, ГИТИС, в «Щепку». Кто поступил, все бросили писать или пишут откровенно слабо. Другая оптика. Как вы считаете, почему так вышло, что у вас есть и любовь к сцене, и этот писательский взгляд постороннего наблюдателя? Иначе говоря, как в вас это сочетается?
Я очень люблю наш Литературный институт. Я закончил учиться в 1989 году. Нам преподавали Чудакова, Кедров, тогда руководил семинаром драматургов Розов, а моим учителем был Вячеслав Максимович Шугаев – светлая ему память, великий был человек, повезло мне (я учился на отделении прозы).
Поступление в Литинститут тогда можно было приравнивать к полету на Луну, что ли. Сейчас учат писать пьесы и прозу в каждом подвале – только плати деньги. В советское время такого не было. Институт давал знания, институт учил. Нельзя, наверное, такое говорить и писать про almamater, но правда ведь: сейчас качество образования крайне снизилось в Литинституте. Назовите хоть одного-двух очень известных молодых драматургов, которых за последние годы выпустил институт?
Ага. Не знаете? И я не знаю.
А я назову три десятка имен моих учеников, которые стали знаменитыми. Я выпустил за 32 года человек семьдесят, кажется, и кому-то – признаю, не очень повезло, театры не обратили на их пьесы внимания, а люди были талантливые и перестали писать, просто – ушли в другое: в журналистику, стали завлитами или еще чем занялись.
А кто-то стал знаменитым. И я горжусь ими.
Так вот. А почему так происходит? Что случилось? Обидно за Литинститут, честное слово. Обидно. Ведь там такая роскошная материальная база. Думаете, в ЕГТИ есть что-то подобное? Думаете, у нас есть такая библиотека, свое радио, свое телевидение и прочее, прочее – работай, воспитывай будущее великого русского реалистического театра!
Но вот – не выходит. Жалко.
И знаете, в чем дело? Думаю, в учителях – это раз. А второе: они все там, студенты – гении. Плюнуть нельзя – в гения попадешь. И они пишут не для сегодняшнего театра (какой бы он гадкий не был), а для некоего выдуманного ими театра.
И при этом они все не знают, что такое Театр.
Они не знают, с какой стороны двери открываются в театр. И они не понимают законов театра, которые сложились за сотни лет существования Театра. Студенты не знают, что такое психология публики. Они пишут не Литературу, Великую Литературу, а сочиняют некие истории, в надежде, что актеры любое барахло красиво в театре расскажут.
Конечно. Расскажут. Но если тебе сказать людям нечего – не садись писать.
Есть то, что я вдалбливаю моим студентам каждый день: Мысль. Слово. Характер. Боль. Есть еще – исходное событие, без которого никак не может быть пьесы. Есть еще…
Впрочем, умолкаю. Бесконечно можно перечислять то, то, и то.
Однажды Борис Рыжий сказал мне:
– Понимаешь, поэзия – высокая частота звучания… А ваша драматургия – нет.
И он был прав.
Никто из драматургов не сочиняет литературу.
Все сочиняют слова. Плохо это.
А как во мне что-то там сочетается – я не знаю. Давайте, через 20 лет после моей смерти пусть скажут – как, что и почему. Ведь когда-то же я умру? Ну вот. Если я вообще останусь в истории русского театра, то и хорошо. А нет – ну, и нет. Никто не знает, что волны времени выкинут на берег и что будет засыпано песком вечности.
Но я себе цену знаю. Я знаю про себя одно: у меня в жизнь есть счастье – что-то придумать, записать на бумаге, а больше всего я счастлив потому, что я могу зафиксировать прекрасное время, которое я проживаю, сделать бессмертными всех тех людей, которых я вижу или видел, записать их жизнь на бумаге.
Розанов сказал: «Что такое писатель? Брошенная жена, забытые дети».
И кроме того, он же, кажется, сказал, что писатель – это вечная музыка, которая звучит в душе (не помню точно).
Ну, а если у человека нет музыки – ну, и не получается ничего.
Вот, нашел в интернете точную цитату Розанова: «Секрет писательства заключается в вечной и невольной музыке в душе. Если ее нет, человек может только "сделать из себя писателя". Но он не писатель…».
А еще, правду вам сказать, я ничего не умею, я не умею иначе зарабатывать деньги. И если мне нужны деньги: я сажусь и пишу пьесу. Но никогда не думаю: «Вот бы ее поставили!». Нет. Я и так знаю, что я напишу что-то хорошее, что поставят. Почему я так думаю? Потому что я это умею. Это как врач хороший, который умеет лечить, или как токарь, черт побери, который умеет болванки красивые точить, или еще какой-то умелец, кто – умеет. А если врач барахло, то и пациенты дохнут. А у плохого токаря болванка со станка отлетает в стенку.
И когда драматурги начинают ныть, что пьесы их гениальные не ставят, я молчу. Потому что знаю: хорошую пьесу всегда поставят. А вот барахлище это поганое – не поставят никогда. В себе причину умный человек ищет, должен искать, а дурак – всегда ищет ее в других. Мол, его затирают. Да кому ты нужен. Напиши хорошее – и все будет в порядке.
Вот и все.
А я знаю свое дело и люблю его.
Ну, уж простите совсем за то, что процитирую похабный анекдот, в котором рассказывается, как русская баба победила на конкурсе секса. Обошла, понимаешь, и француженку, и англичанку. А когда журналисты у нее спросили: «А как вы добились таких успехов?», она просто и не гордо ответила: «Понимаете, в чем дело… Люблю я это дело…»
Так и я.
Понимаете: люблю я это дело: работать для театра, писать, ставить спектакли, учить студентов – вот все.
Как-то в одном из интервью вы говорили, что в театральном училище у вас были замечательные учителя. Расскажите о них, и о других педагогах, которые на вас повлияли как на будущего учителя?
Ой, повезло, правда. В театральном училище был Вадим Михайлович Николаев, главный режиссер Свердловского телевидения, и его бывший ученик, актер театра драмы Алексей Васильевич Петров. Там же, в училище, русскую литературу преподавала Хася Иосифовна Гордина, зарубежную – Яков Соломонович Тубин, а еще была Лариса Давыдовна Немченко, сцендвижение преподавала – Любовь Ивановна Важенина, танец – Леонид Сергеевич Дубанин…
Ой, да всех не перечислить, светлая им память. Никого уж их нет на свете.
Ну, а главным учителем была и остается великая русская литература 19 века и начала 20-го.
Удивительно, что вот «ниточка» не рвется. Я так люблю Товстоногова и все, что он сделал! Его спектакль «Мещане» – это верх совершенства, это то, чем я восхищаюсь всю жизнь.
А представляете: Николаев учился у него. А Вячеслав Иванович Анисимов, который позвал меня в Свердловскую драму играть Лариосика после училища – тоже учился у Георгия Александровича! Мало того: первую мою пьесу «Играем в фанты» тоже поставил тот самый Анисимов!
Несколько лет назад на какой-то лаборатории у нас была экскурсия по БДТ. И вот мы вошли в кабинет к Товстоногову. Я думал, что умру от страха. А нас водила по театру одна из служительниц театра, которая когда-то работала с Товстоноговым, и вот она рассказывала о нем, как о живом. И вот показывает она нам такую вот пепельницу, ракушку, и говорит, что Товстоногов курил, как паровоз, и всегда кричал, чтобы ему принесли именно эту пепельницу.
Черт побери?! А ведь и у меня так в театре! У меня одна пепельница моя любимая, я без нее не могу репетировать!
В 1989 году мне написала Дина Морицовна Шварц, его бессменный завлит и его помощница (у меня два письма от нее хранятся), написала, что Товстоногов прочитал мою пьесу «Корабль дураков»!
Боже! Я чуть с ума не сошел тогда! Он, он прочитал и сказал, что, вот, мол, Петрушевская по сравнению с этим Колядой – чистое и голубое небо. То есть, в те времена пьесы Петрушевской считались «чернухой» полной, а я, стало быть, еще хуже, еще чернее был!
Вы думаете, я расстроился?! Нет! Я прыгал до потолка от счастья: Товстоногов, сам, сам, он прочитал мою пьесу!!!!!!!!!!!
Ну да. Вот так.
Оглядываясь на себя в начале писательского пути, можете сказать, какие книги повлияли, и подражали ли вы кому-нибудь из классиков по молодости? Как пришло понимание, что надо писать о том, что хорошо знаешь?
Я всегда себя считал деревенским парнем и думал, что хорошо разбираюсь в жизни деревни. Поначалу подражал сильно Шукшину, но однажды написал в рассказе строчку: «Она загнала корову…»
И начал долго вспоминать, как называется это место, куда корову загоняют? «Стайка, стойло, загонка»?
Забыл.
Потом засмеялся, отложил рассказ и больше никогда о деревне не писал. А писал и пишу только о том, что хорошо знаю.
Потом подражал Вампилову. Первая пьеса под названием «Дощатовские трагедии» имела подзаголовок: «Подражание А. Вампилову в двух частях».
А потом понял, что подражать, а точнее, стремиться быть похожим надо только на Чехова. А еще подражать надо Толстому, Пушкину, Гоголю. Эти писатели были и остаются любимыми. А еще Горький, Шолохов, Набоков и три-четыре десятка писателей, которых так люблю, что могу снять с полки книгу и начать читать с любой страницы, и улыбаться, радоваться, словно встретился с любимым другом после большой разлуки.
А вообще, что я знаю хорошо? Я знаю хорошо театр. Много написал о людях театра. Все по Шекспиру: «Весь мир театр, люди все актеры».
А еще – я всю жизнь изучаю людей. Подсматриваю и подслушиваю их. О них пишу. Это я знаю хорошо. Знаю хорошо людей, живущих в провинции и про них мне страшно нравится писать.
И еще: драматург – человек наблюдающий. Как и артист, как и режиссер.
Долго объяснять, что это значит.
А сейчас любимые книги какие?
Гоголь. Весь.
Как и когда вы поняли, что сможете быть учителем для других? И насколько вам нравится преподавание? По какому принципу отбираете студентов на свой курс? Во вчерашних школьниках же не так просто разглядеть потенциал.
Все вышло случайно. Мне предложили набрать маленький курс в ЕГТИ и учить будущих драматургов. Я набрал маленький курс – Олег Богаев, Наташа Малашенко и Таня Гарбар. Олег Богаев – знаменитый ныне драматург. Мне понравилась идея: драматурги учатся с актерами и познают театр изнутри. Но как-то не сильно охотно мастера актерских курсов восприняли это, и мне пришлось долго ломать это отношение к себе в институте. А потом пошло и поехало.
Набираю я студентов просто: они представляют творческие работы и сразу видно: есть что-то в человеке или нет. Не знаю, как и почему, но я вижу это сразу.
Мне нравится преподавать.
Хотя нет: я втянулся в это и уже не представляю себе, что мог бы жить без этих ежедневных занятий, без пьес студентов. Это ведь часть моего театра, неотделимая. И фестиваль «Коляда-Plays», который я провожу вот уже 18 лет, составляется в основном из спектаклей по пьесам моих студентов.
Меня часто упрекают, мол, фестиваль бывает приглашает даже любительские театры, скажем, любительский театр из Ижевска в этом году за спектакль «Пластилин» по пьесе Сигарева получил Гран-При – мол, это несерьезно.
И мне говорят: мол, что это?! А где участники – академические театры?!
Знаете, мне присылают видео академические театры для участия в фестивале и мои последние волосы на голове поднимаются от ужаса, а из глаз течет кровь.
Правда: волосы дыбом и кровь из глаз. Лучше я позову маленький театр, но живой, чем вот эту мертвечину.
Потому что говорят: «Лучше один раз живого мяса поесть, чем всю жизнь мертвечиной питаться».
Почти в каждом номере журнала «Альдебаран» мы публикуем пьесы ваших студентов. Публиковалась у нас и Ярослава Пулинович, уже известный драматург, и те, кто учится у вас сейчас – Арина Мансурова, Степан Кугаевских. Это совсем юные ребята, почти дети, но уже со своим видением, умением выстроить пьесу, дать по-настоящему живых персонажей. Как у вас получается им дать это писательское зрение, раскрыть в них природные способности?
Не знаю. Они все сами. Я им только говорю: делай, как я, и все. Я их не учу. Я им лекций не читаю. У нас практические занятия: читаем пьесы новые, обсуждаем, ругаемся. Спорим. А бывает, что не читаем ничего. Собираемся и сидим, часа три-четыре просто говорим про жизнь. Польза от этого невероятная.
Кто сейчас так вот – человек 40-50 – соберутся и будут про что-то, что их волнует, говорить прилюдно, друг с другом?
Тут у меня недавно было занятие, где мы говорили о смерти. И вот как начали вспоминать, кто кого и когда хоронил – вот: сидим, ревем все. Правда. И я плакал, и все. И как-то это так хорошо потом стало, словно душу вот свою взял и выложил, почистил, что ли.
В видео-лекции о том, как писать пьесы, вы рассказывали, что постоянно ведете записные книжки. Но это же нужно приручить вдохновение, то есть, писать, когда появляется свободное время в плотном графике репетиций, лекций, спектаклей. Интересно узнать, как вы работаете над своими текстами.
Все, что написано мною, написано потому, что денег не стало, не было или хотелось заработать. Не вру. Я не жду вдохновения. Оно не придет, если у тебя нет никакой цели. Ничего страшного в этом нет. Однажды Чехов признался, что написал один рассказ, за который его хвалили, бегом-бегом, выйдя из купальни.
20 марта 1986 г. Антон Павлович ответил Григоровичу:
«... Если у меня есть дар, который следует уважать, то, каюсь, перед чистотой Вашего сердца, я доселе не уважал его. Я чувствовал, что он у меня есть, но привык считать его ничтожным... Все мои близкие всегда относились снисходительно к моему авторству и не переставали дружески советовать мне не менять настоящее дело на бумагомарание... Не помню я ни одного рассказа, над которым я работал бы более суток, а «Егерь», который Вам понравился, я писал в купальне! Как репортеры пишут заметки о пожарах... машинально, полубессознательно, нимало не заботясь ни о читателе, ни о себе самом…».
Представляете?! Он написал гениальный рассказ, выйдя из бассейна!
У нас в журнале выходила ваша пьеса «Зеленый палец». Выражение про палец, от которого все, что ни посадишь, растет – где услышали? И как пришла идея построить на этом пьесу?
Как-как. Да никак.
После ковида надо было людям дать что-то веселое в театре. Я написал пьесу «Зеленый палец», а потом «Не включай блондинку» – и поставил это в театре.
А хотел «Фауста» делать. Но решил отложить. Не ко времени был этот «Фауст», незачем было народ напрягать. Сделал комедии, сел да написал.
А «Фауста» недавно поставил.
Надо слышать, что в воздухе происходит. Драматург должен ловить время и воздух.
В интервью изданию «Моменты» за 2023 год вы говорили, что любите маленькие провинциальные театры больше, чем какие-нибудь столичные. Потому что там играют люди, которые не предали свою мечту. А вот вы, когда учились в Литинституте в Москве, должно быть, сталкивались с соблазном остаться? Как это было?
Еще бы. Хотел в начале девяностых переехать в Москву. Тусоваться хотелось. Слава Богу, не уехал. От лени.
Тогда, в начале девяностых, я представил, что мне придется перевозить мою огромную библиотеку, да еще 11 моих кошек, которые тогда жили в моей пятикомнатной квартире (я был тогда богат, у меня театра не было), и так мне лихо стало, и я решил никуда не ехать.
Сейчас был бы сыт, пьян, и нос в табаке, и был бы главным режиссером какого-нибудь московского поганого театра и делал бы вид, что все хорошо.
А на деле – было бы все ужасно, и я сам себе врал бы и вот в этом говне жил бы и – все.
Вы зайдите в любой московский театр – от тоски удавитесь.
А люди живут так и делают вид, что все хорошо, что театр хороший, и выходят каждый день на сцену, и играют черт знает что, приклеившись к бородам или наоборот – играя какие-то свои вербатимы или черт знает что.
Чехов говорил: «Нет, все это новое московское искусство – вздор… Ново только то, что талантливо. Что талантливо, то ново…»
Столько всего вы видели и пережили, но сохранили способность чувствовать. Открыто плакать, смеяться. Как вы думаете, почему? Что помогает не очерстветь душой, не закоснеть?
Не знаю. Я так устал от лжи в театре, что поэтому стараюсь, наверное, в жизни быть естественным, не играть чего-то там. Помогают кошки. Придешь домой и все-все им расскажешь, и они молчат, соглашаются со мной. У меня пять кошек. Они никогда ничего супротив меня не говорят. Они меня любят. Только корми и говно убирай. В театре я не могу ни с кем так откровенно говорить, как с кошками.
И раз уж об эмоциях зашла речь, спрошу про страх сцены. Говорят, что хороший актер должен волноваться, выходя к зрителю. Кто не боится – тому уже все равно, как он сыграет. А вы боитесь выходить на сцену?
Нет. Никогда. Чего бояться? Сцена – сказка, детство, в которое ты вступаешь, переступая порог. И ты начинаешь баловаться. «Я – Король Лир!». Какой ты на хер король Лир?! Ты ведь Коля Коляда! Ну да. И ты, как маленький мальчик, начинаешь баловаться, придуриваться перед всеми и изображать короля Лира, и верить в это. И плевать, что скажут. Надо только сильнее верить. Мне весело и радостно на сцене. С чего я буду бояться своего детства?
У вас сейчас 12 томов сочинений, книга рассказов «Бери да помни», не говоря о публикациях в журналах. Можете рассказать, над чем работаете сейчас?
Скоро выйдет еще пять томов и того у меня будет 20 томов «прижизненного собрания сочинений». У меня вышли три книги рассказов: «Бери да помни», «Ты не печалься» и «Шоу картавых и шепелявых». Тираж – три тысячи каждой книги.
Я пишу много. Бывает, и по заказу. Денег театру надо. Пишу, потому что мне нравится, я люблю сидеть за столом, обливаться слезами или смеяться и сочинять всякую ерунду. И верить в нее. И заставляю верить других.
Иногда меня спрашивают: «А вот этот рассказ – это так было? С кем?». Отвечаю: «Не было. Наврал. Все выдумал». И все думают, я кокетничаю. Нет. Правда. Врал, вру и буду врать. Мне нравится.
И напоследок хотелось бы попросить вас дать напутствие молодым людям, которые хотят стать писателями, ну, или драматургами. Что бы вы сказали в поддержку тому мальчику Коле, который только поехал учиться в город? Даже не столько в качестве мудрого взрослого, сколько как человек, который прошел через испытания жизнью и остался верен себе, своей мечте.
Миленький мальчик! Верь в свою мечту и делай все, чтобы она исполнилась!
Люби!
Знай, что любовь – не слова, а поступки. Совершай их!
Если любишь людей, жизнь, театр – совершай для них поступки!
Не говори много слов, а делай, работай и у тебя будет все.
Даже на кусок хлеба с маслом заработаешь, если будешь работать, а не болтать.
И никого не слушай.
Представь себе жизнь, как заснеженное поле.
Ты идешь по нему и проваливаешься.
Сзади кричат: «Не ходи, утонешь, умрешь!».
Не оборачивайся и никого не слушай.
Ты видишь – там впереди лес?
Тебе в этот лес надо.
Он волшебный.
Иди, проваливайся в снег, но иди.
Я так делал всегда и делаю всю жизнь.
И тебе советую.
Николай Коляда
6 сентября 2025 года
Город Екатеринбург
© Aldebaran 2025.
© Николай Коляда.
© Николай Коляда.