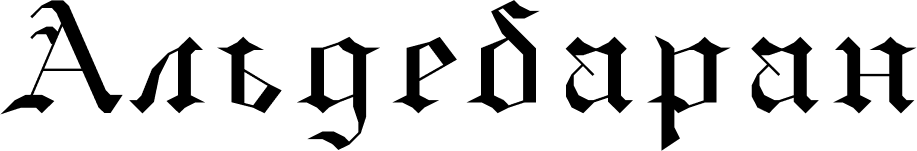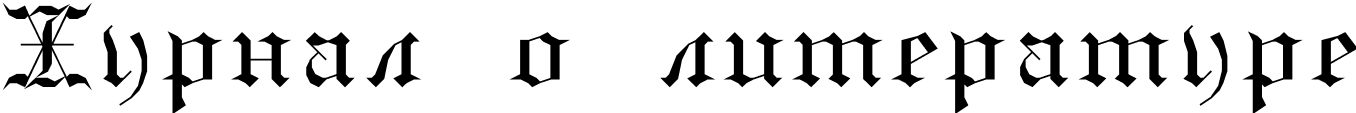На цыпочках...
Артур Новиков
Рецензия на роман «Склеп» Дмитрия Карелова
«Живые приходят сюда за забвеньем и вечностью – только таким здесь рады. Склеп укрывает и хранит, таков его смысл. Хранит мёртвых, но существует ради живых...»
«Склеп» Дмитрий Карелов
«Склеп» – это глубокий, многослойный и структурно выверенный роман, который, несмотря на мнимую простоту повествования, открывает перед читателем драму формирования личности, духовного бегства, боли взросления и последующей адаптации индивидуума в социальном измерении. В центре истории – ребёнок и, позднее, подросток и юноша, оказавшийся в двойном изгнании: из пространства любви и из пространства смысла.
Склеп, который поначалу предстает как метафора изоляции и наказания, со временем превращается в спасительное пространство – тихое прибежище, где можно не существовать в навязанной логике мира, а просто быть. Это антиутопическое «подземное царство», одновременно реальное и символическое, становится своего рода детской антицерковью, местом предельной искренности и отказа от идеологического принуждения.
Автор мастерски ведёт повествование от эпизодов детской жизни – домашних криков, садиковых манипуляций, школьного лицемерия – к философским обобщениям. Однако этот путь не прямолинеен: он состоит из множественных побегов, временных возвращений, самоотречений и мимолётных открытий. Стиль прозы насыщен метафорами, но при этом органичен и не скатывается в вычурность. Детские наблюдения соединяются с рефлексией взрослого рассказчика, что создаёт убедительную двойственную перспективу.
Особое внимание заслуживает язык. В нём нет искусственности – каждое сравнение, каждый образ (от свистка до телевизионной мистерии бабушки Илюши) имеет точку опоры в чувственном, телесном, почти плотском опыте. Это не поэтизированная ретроспекция, а проза боли и интуитивного смысла.
Темы ухода от реальности, социального принуждения, попытки сохранения внутренней автономии через молчание – всё это вплетено в ткань повествования не как философские декларации, а как жизненные открытия. Особенно впечатляет концовка первой трети текста, где будничный, а порой даже гротескный абсурд школьной системы сталкивается с тайным знанием склепа и приводит героя к кризису – переходу от молчаливого сопротивления к адаптации, сопряжённой со стыдом и внутренним разломом.
Эпизоды, посвящённые лагерю и армии, придают «Склепу» трагическую объёмность и историческую плотность: взросление героя вписывается не только в рамки частной биографии, но и в архетип национального опыта, связанного с институционализированной дисциплиной, репрессивной и абсурдной.
Лагерь представлен как постапокалиптический ландшафт – с разрушенными складами, призрачными огоньками в окнах, заросшими статуями пионеров и скрипящими качелями, что звучат уже не ушами, а телом. Здесь страшно не потому, что происходит что-то явно ужасное, а потому, что всё – метафизически мертво. Вожатые действуют как контролёры зоны, а попытка бегства героя в лес – бегство не столько из пространства, сколько от самой системы смыслов. Всё описание лагеря – это дистопия, замаскированная под детский досуг.
Армия продолжает и завершает цикл насильственной социализации, начатый в семье и школе. Здесь герой попадает в парадоксальную структуру, где никто не делает свою работу, но все за неё отвечают; где власть циркулирует не сверху вниз, а по кругу через подмену, страх и иронию. Вспоминая образ склепа, армия оказывается его извращённым антиподом: если склеп давал забвение и покой, то армия навязывает бестолковую активность и тотальный надзор.
Тем не менее, даже в армии герой находит фигуру утешения – Шипкова, чей спокойный, внимательный взгляд становится редкой и ценной моделью созерцательного мужества. Присутствие Шипкова – напоминание о возможности внутреннего достоинства даже в самых отталкивающих условиях. Эта фигура перекликается с мёртвыми из склепа: только теперь «живой мертвец» оказывается наставником, воплощающим не смерть, но выдержку.
Таким образом, лагерный и армейский фрагменты работают как зловещие инверсии мира склепа. Они формируют общий контур главной темы рассказа – темы изгнания из собственного внутреннего пространства. Герой в разных институциях последовательно теряет доступ к себе, замещает подлинность – приспособлением, отчаяние – речью, молчание – громкой, но пустой нормой.
Заключение рассказа, где армейское насилие и сарказм соседствуют с попыткой сохранить наблюдательную интонацию, не даёт утешения, но предлагает осознание: любое место может стать склепом – и в нём тоже можно искать покой, если не спасение.
«Склеп» – это повествование об утрате связи с самим собой, о незаметной гибели ребёнка в процессе социализации, о подмене живого – ролевым. Но одновременно это текст о силе вымысла, фантазии, воображения, как единственно возможного сопротивления в детстве.
Это мощная, зрелая работа, сочетающая эмоциональную плотность с философской глубиной, пронзительную чувственность с социокультурной критикой.
© Aldebaran 2025.
© Новиков Артур.
«Склеп» Дмитрий Карелов
«Склеп» – это глубокий, многослойный и структурно выверенный роман, который, несмотря на мнимую простоту повествования, открывает перед читателем драму формирования личности, духовного бегства, боли взросления и последующей адаптации индивидуума в социальном измерении. В центре истории – ребёнок и, позднее, подросток и юноша, оказавшийся в двойном изгнании: из пространства любви и из пространства смысла.
Склеп, который поначалу предстает как метафора изоляции и наказания, со временем превращается в спасительное пространство – тихое прибежище, где можно не существовать в навязанной логике мира, а просто быть. Это антиутопическое «подземное царство», одновременно реальное и символическое, становится своего рода детской антицерковью, местом предельной искренности и отказа от идеологического принуждения.
Автор мастерски ведёт повествование от эпизодов детской жизни – домашних криков, садиковых манипуляций, школьного лицемерия – к философским обобщениям. Однако этот путь не прямолинеен: он состоит из множественных побегов, временных возвращений, самоотречений и мимолётных открытий. Стиль прозы насыщен метафорами, но при этом органичен и не скатывается в вычурность. Детские наблюдения соединяются с рефлексией взрослого рассказчика, что создаёт убедительную двойственную перспективу.
Особое внимание заслуживает язык. В нём нет искусственности – каждое сравнение, каждый образ (от свистка до телевизионной мистерии бабушки Илюши) имеет точку опоры в чувственном, телесном, почти плотском опыте. Это не поэтизированная ретроспекция, а проза боли и интуитивного смысла.
Темы ухода от реальности, социального принуждения, попытки сохранения внутренней автономии через молчание – всё это вплетено в ткань повествования не как философские декларации, а как жизненные открытия. Особенно впечатляет концовка первой трети текста, где будничный, а порой даже гротескный абсурд школьной системы сталкивается с тайным знанием склепа и приводит героя к кризису – переходу от молчаливого сопротивления к адаптации, сопряжённой со стыдом и внутренним разломом.
Эпизоды, посвящённые лагерю и армии, придают «Склепу» трагическую объёмность и историческую плотность: взросление героя вписывается не только в рамки частной биографии, но и в архетип национального опыта, связанного с институционализированной дисциплиной, репрессивной и абсурдной.
Лагерь представлен как постапокалиптический ландшафт – с разрушенными складами, призрачными огоньками в окнах, заросшими статуями пионеров и скрипящими качелями, что звучат уже не ушами, а телом. Здесь страшно не потому, что происходит что-то явно ужасное, а потому, что всё – метафизически мертво. Вожатые действуют как контролёры зоны, а попытка бегства героя в лес – бегство не столько из пространства, сколько от самой системы смыслов. Всё описание лагеря – это дистопия, замаскированная под детский досуг.
Армия продолжает и завершает цикл насильственной социализации, начатый в семье и школе. Здесь герой попадает в парадоксальную структуру, где никто не делает свою работу, но все за неё отвечают; где власть циркулирует не сверху вниз, а по кругу через подмену, страх и иронию. Вспоминая образ склепа, армия оказывается его извращённым антиподом: если склеп давал забвение и покой, то армия навязывает бестолковую активность и тотальный надзор.
Тем не менее, даже в армии герой находит фигуру утешения – Шипкова, чей спокойный, внимательный взгляд становится редкой и ценной моделью созерцательного мужества. Присутствие Шипкова – напоминание о возможности внутреннего достоинства даже в самых отталкивающих условиях. Эта фигура перекликается с мёртвыми из склепа: только теперь «живой мертвец» оказывается наставником, воплощающим не смерть, но выдержку.
Таким образом, лагерный и армейский фрагменты работают как зловещие инверсии мира склепа. Они формируют общий контур главной темы рассказа – темы изгнания из собственного внутреннего пространства. Герой в разных институциях последовательно теряет доступ к себе, замещает подлинность – приспособлением, отчаяние – речью, молчание – громкой, но пустой нормой.
Заключение рассказа, где армейское насилие и сарказм соседствуют с попыткой сохранить наблюдательную интонацию, не даёт утешения, но предлагает осознание: любое место может стать склепом – и в нём тоже можно искать покой, если не спасение.
«Склеп» – это повествование об утрате связи с самим собой, о незаметной гибели ребёнка в процессе социализации, о подмене живого – ролевым. Но одновременно это текст о силе вымысла, фантазии, воображения, как единственно возможного сопротивления в детстве.
Это мощная, зрелая работа, сочетающая эмоциональную плотность с философской глубиной, пронзительную чувственность с социокультурной критикой.
© Aldebaran 2025.
© Новиков Артур.