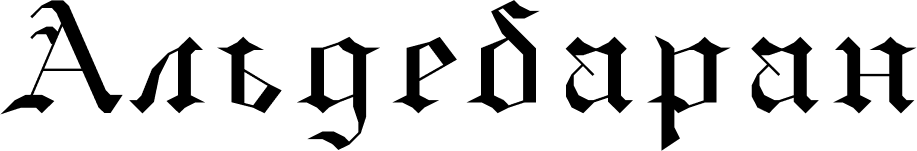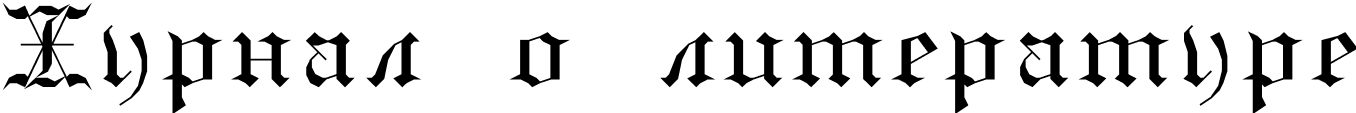Культ удержания: поэтика Константина Комарова
Артур Новиков
Рецензия на подборку Константина Комарова «Главное – дышать...»
Эта подборка Константина Комарова не вошла в номер, посвящённый теме культа (десятый номер), но, как это порой бывает, оказалась с ним в рифме – по внутреннему напряжению, по ритмической логике, по типу высказывания. Мы публикуем её отдельно, на сайте и в группе журнала, с небольшой рецензией – как текст, звучащий рядом, на той же волне. Потому что голос, умеющий выдерживать молчание, в наши дни стоит услышать.
Культ удержания: поэтика Константина Комарова
Поэзия Константина Комарова – это не игра с языком и не конструирование смыслов, а напряжённое выговаривание. Она строится не вокруг темы, идеи или даже образа, а вокруг внутреннего ритма, который необходимо удержать, чтобы не выпасть из речи – а значит, и из жизни. В этих стихах действуют не мифы и не концепты, а слабое пульсирующее «я», которое хочет остаться в тексте хотя бы как интонация. «Стерпит всё бумага, / главное – дышать…» – строчка, в которой сосредоточено многое: и смысл, и метод, и предел.
Комаров – поэт позднего модерна, оказавшийся в постмодерной ситуации. Он чувствует, как под ним обвалилось всё: смысловая система, поэтический канон, культурная иерархия. И в этом обрушении он не строит нового храма, а – остаётся. Его «остаться» не героично, оно зыбко и самоиронично: «я смотрюсь, как клоун / в цирке “Дю Солей”», «во сне трепещет штора / и явственно слышна / в разгаре разговора / сплошная тишина». Здесь речь не о тишине как приёме, а о тишине как остатке – когда голос не замолкает, но разряжается, как дыхание после бега.
Многие тексты этой подборки построены на предельной лаконичности и самоограничении. Лирический субъект говорит от себя, но будто бы стесняясь своей вовлечённости. Он балансирует между попыткой высказывания и осознанием его невозможности: «и пишешь, как не пишешь / стих, что на стих похож». Эта строка – не ирония, а точная фиксация состояния. Неуверенность, уязвимость, но – письмо продолжается.
Темы любви, смерти, письма, вины, стыда, абсурда проходят через подборку как постоянные токи, но не решаются и не формализуются. Они «протекают» – как через тело, так и через ритм: «мир проходит мимо, / банальный и больной, / такой неумолимый / и неумелый – мой». Удивительная фраза – не «мой мир», а «неумелый – мой» – это уже не описание, а почти жест привязанности к ускользающему.
Даже остроумие в этой подборке особенное. Оно не демонстративное, не интонационно высокое, а выведенное из усталости, боли, переутомления языком. «Поцелуй – души улыбка, / как Гёте некогда сказал» – и сразу следом: «не утешиться стаканом, / спирт не разбавит этот плен». Умное напряжение тут почти всегда разрешается не в афоризм, а в уязвимость.
Можно сказать, что перед нами – культ письма, но не как акта власти (сказать, назвать, зафиксировать), а как жеста выживания. Стихотворение становится способом остаться в тексте, даже если речь – сбита, смысл – опустошён, интонация – неуверенна. Это письмо человека, который держится за слово, как за поручень, когда вагон качает. Не уверенно стоит – держится. Это разница между позой и попыткой.
«Размолол бы нечисть / начисто бы в прах, / залетел бы в вечность, / как крахмальный птах» – этот порыв, момент героической декларации, тут же рассыпается в иронию и бытовую невозможность: «Но пылит в подвздошье – / я так не могу…». Так устроено всё пространство этой подборки: герой хочет большего – но говорит изнутри малого, не снижая масштаб желания.
Константин Комаров – поэт с собственной интонацией. Он не стремится к вершинной декларации, не тянется к программности. Его поэзия – не «против» чего-то и не «за» что-то. Она – внутри речи, как внутри борьбы с невидимым. Её цель – не победить, а продержаться. Возможно, поэтому у неё такой точный и пронзительный ритм: дыхание, сбивающееся, но не исчезающее.
© Aldebaran 2025.
© Новиков Артур.
Культ удержания: поэтика Константина Комарова
Поэзия Константина Комарова – это не игра с языком и не конструирование смыслов, а напряжённое выговаривание. Она строится не вокруг темы, идеи или даже образа, а вокруг внутреннего ритма, который необходимо удержать, чтобы не выпасть из речи – а значит, и из жизни. В этих стихах действуют не мифы и не концепты, а слабое пульсирующее «я», которое хочет остаться в тексте хотя бы как интонация. «Стерпит всё бумага, / главное – дышать…» – строчка, в которой сосредоточено многое: и смысл, и метод, и предел.
Комаров – поэт позднего модерна, оказавшийся в постмодерной ситуации. Он чувствует, как под ним обвалилось всё: смысловая система, поэтический канон, культурная иерархия. И в этом обрушении он не строит нового храма, а – остаётся. Его «остаться» не героично, оно зыбко и самоиронично: «я смотрюсь, как клоун / в цирке “Дю Солей”», «во сне трепещет штора / и явственно слышна / в разгаре разговора / сплошная тишина». Здесь речь не о тишине как приёме, а о тишине как остатке – когда голос не замолкает, но разряжается, как дыхание после бега.
Многие тексты этой подборки построены на предельной лаконичности и самоограничении. Лирический субъект говорит от себя, но будто бы стесняясь своей вовлечённости. Он балансирует между попыткой высказывания и осознанием его невозможности: «и пишешь, как не пишешь / стих, что на стих похож». Эта строка – не ирония, а точная фиксация состояния. Неуверенность, уязвимость, но – письмо продолжается.
Темы любви, смерти, письма, вины, стыда, абсурда проходят через подборку как постоянные токи, но не решаются и не формализуются. Они «протекают» – как через тело, так и через ритм: «мир проходит мимо, / банальный и больной, / такой неумолимый / и неумелый – мой». Удивительная фраза – не «мой мир», а «неумелый – мой» – это уже не описание, а почти жест привязанности к ускользающему.
Даже остроумие в этой подборке особенное. Оно не демонстративное, не интонационно высокое, а выведенное из усталости, боли, переутомления языком. «Поцелуй – души улыбка, / как Гёте некогда сказал» – и сразу следом: «не утешиться стаканом, / спирт не разбавит этот плен». Умное напряжение тут почти всегда разрешается не в афоризм, а в уязвимость.
Можно сказать, что перед нами – культ письма, но не как акта власти (сказать, назвать, зафиксировать), а как жеста выживания. Стихотворение становится способом остаться в тексте, даже если речь – сбита, смысл – опустошён, интонация – неуверенна. Это письмо человека, который держится за слово, как за поручень, когда вагон качает. Не уверенно стоит – держится. Это разница между позой и попыткой.
«Размолол бы нечисть / начисто бы в прах, / залетел бы в вечность, / как крахмальный птах» – этот порыв, момент героической декларации, тут же рассыпается в иронию и бытовую невозможность: «Но пылит в подвздошье – / я так не могу…». Так устроено всё пространство этой подборки: герой хочет большего – но говорит изнутри малого, не снижая масштаб желания.
Константин Комаров – поэт с собственной интонацией. Он не стремится к вершинной декларации, не тянется к программности. Его поэзия – не «против» чего-то и не «за» что-то. Она – внутри речи, как внутри борьбы с невидимым. Её цель – не победить, а продержаться. Возможно, поэтому у неё такой точный и пронзительный ритм: дыхание, сбивающееся, но не исчезающее.
© Aldebaran 2025.
© Новиков Артур.